|
Год 1979-й, сентябрь
"РимКор"
Он был единственным среди студентов музыкального училища при Консерватории, кто общался со мной без снисходительного подлаживания под мой 14-летний возраст, а просто как со своим, a priоri предполагая во мне равновеликий культурный потенциал. Причём предполагая совершенно искренне. Это был вообще, как я понял уже много позднее, его фирменный «радченковский» стиль общения: в каждом человеке видеть конгениального собеседника, даже мысли не допуская, что тот может в чём-то оказаться глупее и необразованнее его.
Сказать, что такое отношение в то время было важно для меня – почти ничего не сказать. Оно было спасительным родником в выжженной почти дотла пустыне моего безостановочного самогрызения. Но родник этот появлялся так редко, в среднем всего каких-то двадцать минут в день, что я более полугода не мог поверить в его реальность. А когда поверил наконец, когда понял, что Володе со мной действительно интересно, без всяких там надуманностей и туманных психологических сложностей, когда перестал смущаться при встречах и разговорах с ним, – было поздно, мы уже не учились вместе. Будучи почти на четыре года старше меня (а в эпоху юности возрастная разница даже в месяцы чрезвычайно существенна!), Володя как раз оканчивал в том учебном году наш «РимКор», лучшее в городе музыкальное училище при Консерватории имени Римского-Корсакова, – и уж оттуда ему прямая дорога была в саму Консерваторию при его-то разнообразных талантах, необычайном интеллекте и феноменальной памяти. Я же только что поступил в это училище после школы, где был все восемь лет учёбы самым младшим учеником, что постепенно задавило меня морально – так же, как давили теперь просторные коридоры с высоченными потолками и огромные дубовые двери в аудитории. Это возрастное «аутсайдерство» сохранялось и здесь, на курсе (я вообще был самым мелковозрастным студентом из всего училища), из-за чего мои однокурсники – тем более, что некоторые из них поступили сюда не с первого захода – относились ко мне не слишком серьёзно, а многие попросту свысока. В отличие от него, Володи, за что я всегда буду ему безмерно благодарен. Сдружившись почему-то именно с нашим первым курсом, он повадился то и дело приходить к нам – на переменах ли, в послеурочное ли вечернее время, когда новоиспечённые восторженные студенты моего курса (я-то к этому не имел отношения), счастливые уже тем, что удалось поступить, – добровольно, без всякого направляющего влияния взрослых, устраивали сами себе лекции по различным внепрограммным темам. Форма была выбрана такая: кто-то из нас (из них) раза два в месяц просвещал остальных по определённой тематике. А поскольку в отечественной музыкальной среде был в то время ощутимый вакуум по отношению к зарубежной музыке 20-го века, то есть она почти не проникала к нам из-за «железного занавеса», то наиболее активные первокурсники в интуитивном своём порыве решили восполнять пробелы и вызывались просвещать друг друга именно в этом направлении: на собраниях разбиралась музыка Брукнера и Малера, Веберна и Шёнберга, были даже «Битлз» и ещё что-то столь же острое и интересное, сейчас уже и не упомню. В последующие годы, когда я продолжал посещать эти "лектории", учась уже в другом училище, добавились Альбан Берг с его оперой "Воццек" (тут инициатором и рассказчиком был Саша Харьковский, о котором ещё скажу), Стравинский и вообще додекафония, Пьер Булёз, а также Дариюс Мийо и Артюр Онеггер (члены "французской шестёрки", о которой я сам позднее писал работу). Руководство заведения смотрело на такие выверты студентов сквозь пальцы, считая их юношеской блажью. А Шёнберг, ясное дело, был включён в эти факультативы не без участия Володи, поскольку это был один из любимых его композиторов. Возможно, в среде своих однокурсников Володя был лишён подобного содержательного общения, подобной восторженной атмосферы, характерной для «первокуршек». Зато с любым из нас он моментально находил общий язык – причём, совершенно естественно, без всякой осознанной установки на это. Моя однокурсница Жанна Краснова говорила позднее: – У Володи такое свойство, будто к каждому он относится при разговоре как к высшему существу, а не наоборот. И это очень мило! 1) Таким я его и узнал в начале нашей дружбы, которая стремительно зародилась в 1979 году; 2) Типичная картина: на переменах между лекциями четверокурсник Володя Радченков постоянно приходил к нам и вращался среди студентов нашего первого курса в том памятном 1979-1980 учебном году (у рояля Катя Смирнова, Оля Мельниченко, Жанна Краснова и Света Майорова); 3) Володя на Финляндском вокзале после одной из наших загородных поездок осенью 1979 года (перед тем, как я нажал на спуск фотоаппарата, он успел «для прикола» вставить в свою неизменную шапку веточку сосны); ; 4) Знаменитый наш Матвеев переулок, в конце которого находятся музыкальная школа при Консерватории и музыкальное училище при ней же – дом 1а, литера А, 1937-й год; 5) То же место сегодня; за прошедшие десятилетия мало что изменилось, разве что появился слева от них психдиспансер – повод для постоянных шуток студентов. (Автор заранее просит прощения за жутчайшее качество большинства фотографий в этой книге. Кабы знать, что она когда-то появится и потребует каких-никаких иллюстраций к ней, да иметь бы в то далёкое бессребренное время «зеркалку», да обладать навыками съёмки, да не забывать иногда вынимать свой фотоагрегат и нажимать на спуск… ну, в общем, как-то так).
Год 1979-й, октябрь
«Общнёмся?» На описание володиной жизни я, конечно, не претендую. Здесь будут только разрозненные зарисовки наших с ним встреч и совместных путешествий. Многое, даже очень существенное и важное из его биографии я буду вынужден упустить, поскольку просто не имею пока достоверной информации. Например, о становлении его как музыканта (композитора, клавесиниста, органиста, импровизатора, джазового исполнителя и наконец, преподавателя), о его главных учителях в музыкальной жизни. О том, как получилось, что сын шофёра и медсестры стал известным в городе музыкантом. Всё собираюсь расспросить его при случае, да как-то всё больше о другом-всяком-разном говорится на наших встречах, теперь уже совсем редких – хорошо, если раз в год. Но надеюсь, что ещё дополню со временем эти записки. Бросалась в глаза такая вещь: если в руки Володи попадала новая книга или ноты нового музыкального произведения – он быстренько сканировал глазами текст (уже тогда при своей близорукости поднося его предельно близко к лицу и возя вверх-вниз перед носом) – а затем тут же выдавал своё резюме всего лишь одной фразой, и этого было достаточно, чтобы ясно понять, что он с первого раза проник в суть просмотренного. Наше с Володей знакомство в училище произошло так. Он стоял в коридоре у окна второго этажа и, разложив на подоконнике партитуру своего концерта для альта, внаклонку что-то правил в ней. Так получилось, что я стоял за его спиной, ожидая начала лекции по музыкальной литературе. Он зачёркнул несколько тактов произведения, а затем вдруг повернулся ко мне и доверительно произнёс: – Вот так пишешь, пишешь – а потом приходится вырезать целые фрагменты. Как ножом кусок сердца вырезаешь! Это было сказано как давнему знакомому, с полной уверенностью, что его с ходу поймут. Я не привык к такому. А он считал меня частью своего любимого 1-го курса, к которому прикипел душой, не отделяя от других студентов. Случилось это в сентябре 1979-го. Ну, или в самом начале октября. С этого момента мы и стали общаться. Правда, пока лишь изредка, урывками. Он называл это «общнуться». Спеша мимо меня по коридору училища, он бросал на ходу: – Общнёмся позднее того, цейтнот! Зато когда мы с Володей оставались вдвоём – в том же коридоре или на улице, и было у нас некоторое время, чтобы поговорить, – я с жадностью впивался в него каждый раз, словно клещ, с какими-то зелёными своими мыслями, большей частью нелепыми, как теперь понимается – о будущем человечества, о космосе и каких-то прочих глобальных идеях. Но Володя совершенно спокойно, не моргнув глазом, отвечал мне очень просто и обстоятельно на любой мой самый наивный вопрос. Никогда, как я уже говорил, не было в нём попыток подделаться под интеллектуальный уровень младшего собеседника, в отличие от других студентов в разговорах со мной. Как человек, который сам легко запоминает и переваривает огромное количество информации, а затем готов при первой возможности щедро поделиться ею, он как будто и представить себе не мог, что его собеседник не такой, что он может чего-то не запомнить и не усвоить с такой же лёгкостью. Оттого и стал я цепляться за него. А он, вероятно, был тронут моей непосредственностью, моей тягой к нему. В то время и в той обстановке мне как воздух нужен был именно вот такой Володя – не то, чтобы игнорировавший, а просто наивно не замечавший самоедства собеседника. И по этой причине только с ним я испытывал комфорт общения. Он был дарован мне свыше. Но таким был лишь он один из всех обитателей училища, включая студентов и преподавателей. Больше я подобного общения в этом мире не находил.
Год 1979-й, ноябрь
"Римкоровцы" Мы с Володей учились у выдающихся преподавателей-профессионалов, оставивших незабываемый след в истории училища. Таких, как Елена Николаевна Разумовская, Лариса Захаровна Столярова, Борис Валентинович Можжевелов, Галина Арсеньевна Савоскина, Тамара Петровна Тихонова-Молоткова, Александр Николаевич Болдырев, Татьяна Ефимовна Бабанина, Ольга Игоревна Грозмани, Минна Абрамовна Гиндина, Михаил Иосифович Лебедь. О каждом из них можно долго рассказывать отдельно, но у других это получится лучше меня. Некоторые трудятся как педагоги до сих пор. С нами в одно время учились такие известные потом музыканты, как Сергей Близнецов – ныне ведущий гобоист в "Мариинке", Борис Райскин – яркий джазовый музыкант и виолончелист, Игорь Корнелюк – известный эстрадный певец и композитор… У Володи с ними со всеми были прекрасные отношения. Хорошо помню и сейчас всех своих однокурсников – это Лариса Лозинская, Галя Хосровьян, Жанна Краснова, Оля Мельниченко, Таня Силина, Света Майорова, Катя Смирнова, Аня Воронова, Антон Яковлев, Таня Демитриадес, Ира Топорова, Вика Солдатова, Таня Нугаева. Но особо ярким явлением на нашем курсе был Миша Журавлёв – ершистый живчик и неугомонный спорщик, прирождённый оппозиционер (таким он остаётся и сейчас!), всегда находившийся в состоянии противостояния многим учителям и разивший окружающих эпатажными высказываниями, остроумием и эрудицией. Он пользовался оглушительным успехом у наших девчонок На его фоне я окончательно стушевался в течение той осени и скоро вообще перестал реагировать на имя «Миша», ибо привык, что всегда зовут только его. И когда Володя чуть ли не каждый день врывался к нам со словами: – Где мой Миша? Я без него жить не могу! – все принимали эту володину привязанность как должное и спешили позвать для него Журавлёва. Разные мелкие случаи касательно разделявшей меня с Мишей пропасти (мелкими они являлись, разумеется, объективно, но не для меня, – так же, как и пропасть, которой на деле, конечно же, не было!) только подливали масла в огонь моего самосожжения. Вот пример. В конце декабря принимала у нас экзамен по музыкальной литературе наша преподавательница Ольга Игоревна Грозмани. А возможно, это был просто зачёт, потому что учительница сама почему-то придумывала нам вопросы, никто никаких билетов не тянул. Мы с Мишей галантно пропустили девочек нашей подгруппы вперёд и, подождав в коридоре, когда все сдадут и выйдут, вошли в аудиторию последними. Поглядев на Журавлёва с видом: «Ну, сейчас я ему загну, нечего было задаваться!» – Ольга Игоревна, чуть подумав, выдала: – Готовьте такой вопрос: речитатив в «Страстях по Иоанну» Баха. («Ну ничего себе! – подумал я, – это даже для старших курсов Консерватории сложно»). Затем она повернулась ко мне, жалостливо посмотрела и с обречённым видом бросила: – Сюжет «Свадьбы Фигаро»! Забавно теперь всё это выглядит и рассказывается, но тогда я был сверхчувствителен к каждому взгляду и слову (мне едва стукнуло 15), потому и запомнил всё до мелочей. Володя тоже подпал тогда под обаяние Миши и его энергетику. Но обо мне не забывал (один из всех!), так что в случавшиеся у них иногда совместные загородные поездки приглашал и меня. Об этих однодневных поездках я ещё расскажу чуть позже. Они стали по сути важнейшим элементом нашей с Володей дружбы.
Год 1979-й, декабрь
В.А.Сапожников Училищем имени Римского-Корсакова, правда, наше заведение стало официально называться только с 1991 года, а до этого называлось просто училищем при Консерватории. Но мне помнится, что вроде бы уже тогда, за десять лет до этого, его называли "РимКором", чтобы не путать с "Мусором", училищем имени Мусоргского. Впрочем, не уверен, что память меня в этом вопросе не подводит. Перед тем, как поступить в училище, я почти весь учебный год ездил в него на подготовительные курсы. Причём начал ходить с октября 1978-го на курсы в училище не Римского-Корсакова, а Мусоргского, собираясь поступать именно в него. Но я хотел научиться сочинять музыку, и тогда мои родители выяснили, что факультативные занятия композицией есть только в «РимКоре». А посему я был переведён туда, и уже с ноября ходил на курсы училища при Консерватории, которые вели такие же студентки-практикантки, как и в прошлом заведении. И вот, когда я поступил, то узнал, что многие мои однокурсники регулярно ходят на занятия композицией к нашему преподавателю Владимиру Алексеевичу Сапожникову, уже тогда признанному композитору в его 34 года. Володя Радченков был на этих факультативах своим человеком. Он помогал младшим студентам-сочинителям встать на ноги, ободрял их и всячески продвигал. По счастью, он был (да и остаётся) совсем не из тех, кто любит и лелеет только себя и свою музыку. Творчество других – в любых проявлениях , – и особенно друзей, всегда вызывало у него острый интерес и живейший отклик. Мог ли Володя предполагать, что когда-то заменит самого Владимира Алексеевича (который преподаёт сегодня в Школе искусств имени Е.А.Мравинского) на этом наставническом посту? Я хорошо помню этого позитивного, приятно и скромно улыбающегося человека, всегда излучавшего свет, который в некоторой мере усиливала ранняя лысина. На нечастых выступлениях перед студентами он увлекательно рассказывал о своих поездках в соцстраны и спектаклях в Варшаве и Праге, которые ему довелось увидеть. Весьма ценным в занятиях у В.А.Сапожникова было то, что он периодически устраивал концерты сочинений своих учеников, чтобы они играли друг перед другом и перед публикой. На эти выступления я всегда ходил с живым любопытством – до сих помню музыку некоторых участников! – но сам ни разу не осмелился прийти на сами занятия композицией и хоть что-то показать из своего, хотя к тому времени уже имел толстую папку сочинений - прелюдии, романсы, вальсы, ноктюрны и много других пьес. Даже Володе постеснялся тогда сказать, что тоже пишу фортепианные и вокальные вещи. А Миша Журавлёв всегда сочинял музыку очень активно – свою Первую симфонию он написал в 14 лет (мы с ним вместе учились в 7-й музыкальной школе Выборгского района, и я знал его с детства, то есть с 1972 года). Володя, собаку съевший на композиции, стал его наставником в сочинительстве. Музыка Журавлёва отличалась интеллектуализмом. Его сонаты и другие произведения непременно исполнялись автором на этих концертах начинающих композиторов, периодически проводившихся в училище. Все пророчили ему композиторское будущее. Вспомнился, кстати, по этому поводу ещё один маленький эпизод. Наша классная руководительница Наталья Евгеньевна Бинунская, представляя во время экскурсии по городу свой курс, чтобы ведущая различала нас по именам, сказала: – У нас есть два Миши: один Миша-композитор, а второй просто Миша. Так и жил я среди них «просто Мишей». В этом, разумеется, была только моя вина, то есть моя юношеская зажатость. Во время последней нашей (на сегодня) встречи я вспомнил о событиях 27-летней давности и поведал Володе о тех концертах юных сочинителей. Он очень расстроился: - Да ведь я всех к нему приводил, к Владимиру-то Алексеевичу! И как же это я тебя упустил тогда?
Год 1979-й, декабрь же
Культпоходы Мы часто бегали всем курсом в кино. Причём на самые яркие, интересные фильмы – либо свежевышедшие, либо действительно стОящие этих походов. Не знаю до сих пор, кто выбирал репертуар, но не исключаю, что и Володя что-то советовал в этом плане. И конечно, он по возможности всегда присоединялся к нам. Тогда, в конце 1979-го, у нас шёл фестиваль фильмов Тарковского. Он был ярчайшим культурным событием города, которое пропустить было нельзя. В Доме культуры имени 1-й Пятилетки, что рядом с училищем, нам посчастливилось увидеть лично Андрея Арсеньевича Тарковского на одной из его творческих встреч. А в кинотеатрах «Аврора» и «Октябрь» на Невском проспекте мы увидели (многие из нас впервые) его фильмы «Иваново детство» и «Андрей Рублёв». Тогда я мало что понял, но многое запомнил. В «Титане» на углу Невского и Садовой смотрели мы эйзенштейновского «Ивана Грозного», а чуть позднее – только что вышедшие на экраны отечественные фильмы «Гараж» и «Ах, водевиль, водевиль…». Вот эти картины были гораздо проще и понятнее! Конечно же, мы посещали и музыкальные концерты. Не говоря уж о том, что не пропускали никаких интересных выступлений у нас в училище (особо запомнился масштабный фортепианный концерт Михаила Лебедя в конце ноября), частенько наведывались мы и в Филармонию. Например, 1 декабря слушали скрипача Леонида Когана. Он исполнял скрипичные сонаты Бетховена. Конечно, это было гениально! Стихийная музыкальность и романтическая приподнятость исполнения, виртуозное мастерство Когана и его знаменитый глубокий звук – всё оставило сильнейшее впечатление. Ходили на оркестровые, на органные концерты – всего и не вспомнишь! По два-три дня из каждой недели, а то и больше, проводили мы в филармонических залах. Запомнилась мне выставка художника Ильи Глазунова, проходившая в тот месяц в «Манеже». Ажиотаж тогда был дикий! Народ ломился толпами и стоял в уличной очереди часами. Вероятно, интерес этот был из-за новизны, из-за явного отклонения такой живописи от приевшегося соцреализма. А властям, возможно, хотелось создать видимость своей лояльности к искусству и к народу. После проведения выставки у нас на стене училища вывесили огромную стенгазету, целиком посвященную этому событию. С репродукциями некоторых глазуновских картин – «Царь и царевич», «Сергий Радонежский», «Мистерия ХХ века»… Не так-то просто было в те времена раздобыть эти репродукции! В той рукописной стенгазете было оставлено пространство для отзывов читающих, что-то вроде сегодняшних форумов в интернете. Отзывы были резко полярными – от восхищения «блестящим мастером» до «пошлости и безвкусицы», от: «Какой великий талант!» до: «Это порнография духа!» (всех отзывов, конечно, не помню). Но всё-таки многие сходились на понятии «китч» в определении основного свойства большинства работ. Володя Радченков тогда промолчал. Но много позднее, когда мы общались с ним уже вовсю откровенно, отозвался о Глазунове презрительно: – Придворный коммерсант от живописи! Ловко умеет сделать себе имя, ввинтиться в правящие круги. Мастер рекламных трюков, а не живописец! С того момента и я потерял к этому художнику интерес. (Правда, когда совсем недавно вышла его автобиографическая «Россия распятая» в четырёх томах, я заинтересовался и специально поехал в «Дом Книги» на Невском, чтобы купить её за немалые деньги. И – разочаровался! За почти каждой строчкой проглядывает навязчивая самовлюблённость автора, это отталкивает с самого начала чтения. Заслуги перед русской культурой у него, конечно, есть, хоть он сам их и преувеличивает. Я даже написал ему по электронной почте довольно хороший отзыв, да ещё с каким-то вопросом, но он не ответил.). Наверняка Володя обсуждал с моими однокурсниками эти фильмы, концерты и выставки – это было, не могло не быть; но поскольку я в этом не участвовал, то и не помню, что тогда говорилось. Вот такой был творческий курс – первый курс ТКО, теоретико-композиторского отделения!
Год 1980-й, январь
Клавесин + Уже тогда Володя проявлял интерес – пока только интерес – к клавесинной музыке. Иногда он рассказывал мне о разных типах клавесинов, клавикордов, клавичембало, об их устройстве. Через полтора-два десятилетия он станет тем выдающимся клавесинистом и знатоком истории клавишных инструментов, известным в нашем городе и за его пределами, каким мы его знаем сейчас. 17 января 1980 года мы встретились с ним в Капелле. В тот день пианист Лев Болдырев исполнял на клавесине «Хорошо темперированный клавир» Баха, весь 1-й том. Любопытно стало послушать, как звучат на непривычном для слуха инструменте хорошо знакомые произведения. Поэтому я, конечно же, пошёл на этот концерт. А Володя был движим профессиональным интересом и уже тогда понимал в тонкостях клавесинного искусства куда больше моего. Он много слушал в грамзаписях Ванду Ландовску, Ральфа Киркпатрика, Густава Леонхардта – за границей клавесинное искусство возрождалось куда активнее. А у нас этим занимались в то время отдельные подвижники. Такие, например, как Лев Болдырев и Алексей Любимов. А потом их эстафету перехватили Ирина Шнеерова и Владимир Радченков. Оказалось, что едва ли не половина зала Капеллы – наш «РимКор», студенты и преподаватели. Все с интересом слушали почти экзотическое в то время звучание хорошо всем знакомых прелюдий и фуг. Некоторые из них музыкант трактовал весьма оригинально. Была здесь и Марианна Робертовна Фрейдлинг – гениальный педагог, пианистка и органистка, которая бескорыстно занималась со мной у себя дома в течение полугода, с ноября 1979 по май 1980, и оказала мне этим огромную помощь. И музыкальную, и психологическую. И пожалуй, единственным человеком, далёким от музыки и не понимавшим ничего в происходящем звучании, была моя мама. Она привезла нас с сестрой Светой на тот концерт (сами мы были слишком малы, по её мнению, чтобы добраться до Капеллы с нашей Гражданки), а потом признавалась: – Уфф, еде досидела. Два отделения – и всё одно и то же! Разумеется, для непосвящённых это был просто набор из 48 «одинаковых» пьес. Мама изнывала от того, что все они казались ей на одно лицо. Да, у клавесина нет таких звуковых градаций, как у фортепиано, поэтому через какое-то время можно утомиться, если не знать эту музыку заранее. А зная, легче следить за переплетениями голосов и за их развитием. Но мы ведь все выросли на обоих томах «ХТК», а в училище считалось зазорным не знать тему какой-либо фуги оттуда! А потому зал внимал исполнению, затаив дыхание. По окончании концерта нам с Володей удалось в числе нескольких наших студентов и студенток пробраться на сцену и самим попробовать поиграть на инструменте. Это было, похоже, первое прикосновение к клавесину для нас обоих. На концертах мы с Володей встречались постоянно – случайно и не случайно. 24 января были мы с ним в Большом зале Филармонии на выступлении Литовского оркестра, которым дирижировал Саулюс Сондецкис. Исполнялись произведения Моцарта, в том числе его 24-й фортепианный концерт, где солировал Григорий Соколов (сейчас-то почти нереально пробиться на его выступления). А на другой день тот же оркестр исполнял в числе прочих музыку и любимых композиторов Володи – Шуберта и Гайдна. Как же было не пойти! Но сам я больше бегал на пианистов. Тогда у нас гастролировало много иностранцев, и в ту зиму я посещал концерты британца Джона О’Коннора, итальянца Антонио Басиеро, француза Жана-Пьера Арменго, американца Озана Марша, грека Николаса Эконому. Из наших пианистов слушал я Виталия Берзона, Элисо Вирсаладзе, Сергея Мальцева, Николая Петрова, Владимира Шакина и многих-многих ещё. Почти исключительно из-за Шопена, которым тогда «болел» сильнейшим образом. 




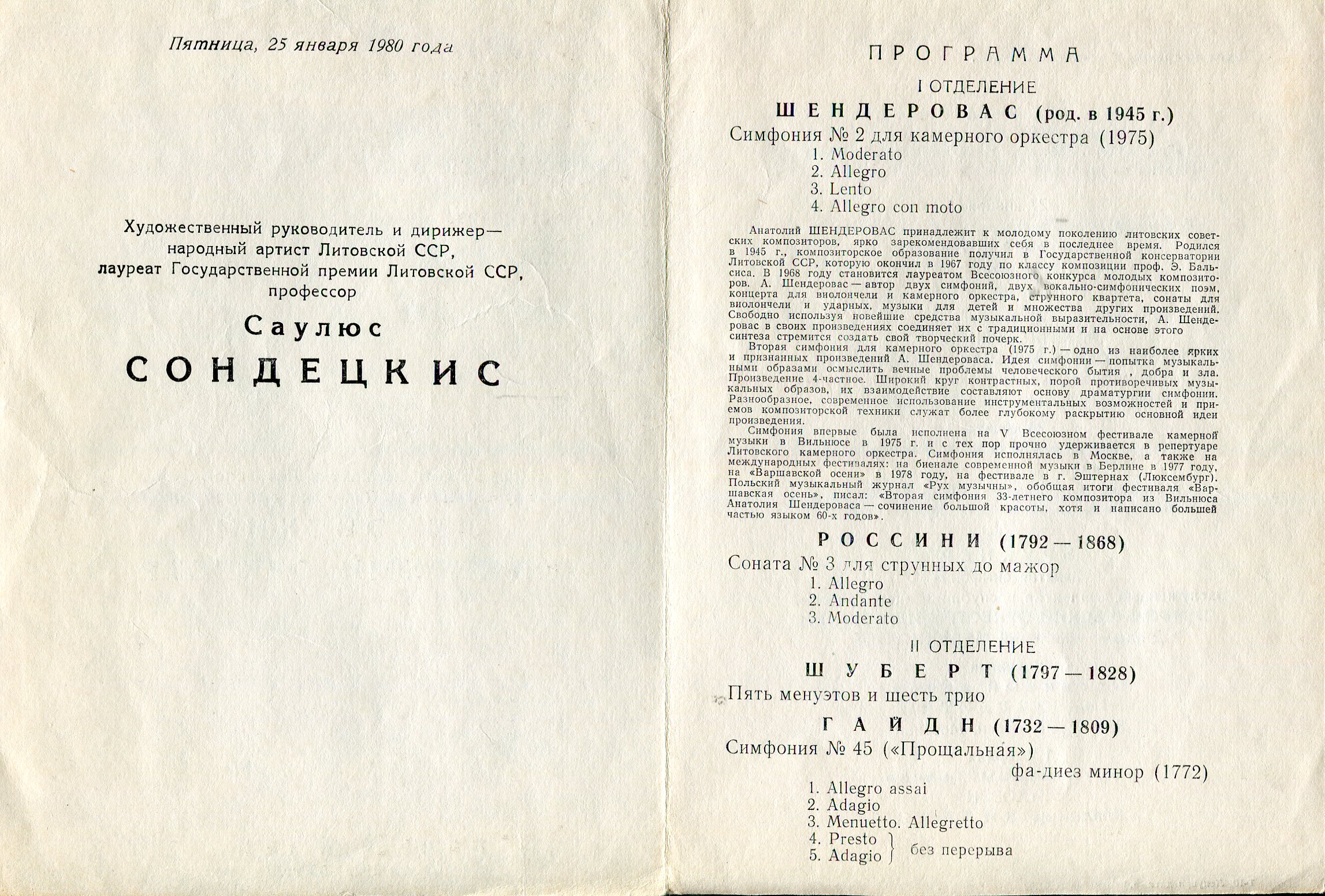
Очередь на выставку И.Глазунова (конец 1979 г.) и программки некоторых из наших с Володей походов в Капеллу и Филармонию за январь 1980-го
Год 1980-й, февраль
Любимые композиторы А его душа принадлежала совсем иным композиторам. Среди них были у Володи самые любимые. Однажды в ту зиму он по моей просьбе совершенно чётко их назвал. Точнее, это была даже не просьба, а просто припирание к стенке с моей стороны. Юность иногда неумна в своей категоричности. Итак, вот эти его пять любимых композиторов: Гайдн, Шуберт, Шёнберг, Стравинский, Хиндемит. Он остаётся верен этим именам до сих пор. Музыку Йозефа Гайдна и Франца Шуберта, несмотря на то, что один считается классиком, а другой романтиком, отличают ясность формы, светлый колорит, преобладание мажорных тональностей. Володе это было куда ближе, нежели юношеское стремление к нагнетанию драматических чувств, как у некоторых вроде автора. Арнольд Шёнберг с его додекафонией, серийной и атональной музыкой, думается, привлёк моего друга как интересная интеллектуальная задача, как совершенно новая, незнакомая доселе система звуковых отношений. Это было дыхание из другого мира, из-за «железного занавеса». Непонятно было только, где он умудрялся в те годы доставать музыкальный материал. Игорь Фёдорович Стравинский притягивал его по той же причине – как продолжатель шёнбергской додекафонии и его «Новой венской школы». Но это уже поздний Стравинский. А меня Володя поначалу пытался приучать к раннему – считал, что лучше всего именно с этого начинать постигать современную музыку, отрываясь наконец от Шопена. По этой причине Володя дарил мне пластинки с «Петрушкой», «Жар-птицей» и «Весной священной» – произведениями, благодаря которым молодой Стравинский получил мировую славу. Тот же Володя сводил меня тогда на известный хор Валентина Нестерова, который пел сочинение Стравинского «Introitus Т. S. Eliot in memoriam» для мужского хора и инструментального ансамбля. Между прочим, то было первое исполнение этого произведения в нашей стране. И наконец, Пауль Хиндемит. Вот это уже музыка «от мозга». Да, тоже так называемый неоклассицизм. Но с уклоном в контрапункт, полифонию, которая всегда стояла для Володи во главе угла. Позднее из чистого любопытства я разучил одну фугу Хиндемита, она даже пошла потом на экзамен. Занимала фуга две нотных страницы, и только выучив окончательно музыкальный текст, я заметил вдруг, что вторая страница является самым настоящим зеркальным отражением первой. Это стало открытием. Но тогда, в 1979-1980-м, для меня в юношеском моём максимализме существовал почти исключительно Шопен. То есть, конечно, я любил играть Баха, Бетховена и Моцарта. Но лучшей в мире, приоритетной музыкой считал шопеновскую. Потому и бежал на любого пианиста, лишь бы мелькнули на афише эти пять букв: "Шопен" (Володя же такие фортепианные концерты игнорировал). Собственно, оно и понятно: для возраста созревания, пробуждения чувственности эта музыка – самое то! К тому же важны её доступность и чисто пианистическое удобство исполнения. Это было единственное, чем я выделялся на своём курсе. Меня даже прозвали «шопенистом» – разумеется, в шутку: играл-то я его, как потом осознал, очень плохо и незрело. Но играл с утра до вечера все шопеновские произведения, и как только выдавалось свободное от учёбы время, тут же искал свободное помещение с роялем (уезжал я учиться в 8 утра с полным чая термосом и бутербродами, которые мне с собой давала мама, а возвращался в 10 вечера с ними же, совершенно забывая, к её ужасу, о еде). Жанна Краснова даже шутила: – Если тебе нужен Миша, прикрой глаза и иди не спеша по коридору. Из-за двери какого класса доносится Шопен – там он и сидит! А к моему 15-летию Таня Демитриадес сочинила поздравительные стихи от курса, которые начинались так:
Нам струны сердца так и рвут, Мы знаем точно: Миша Строков Шопена исполняет тут! Однако Володя не разделял моих восторгов по поводу Фредерика Шопена. Противник всякой чувственности, он даже как будто не замечал их, понимая, что это всего лишь этап, «возрастной мост». Его снисходительное отношение меня поначалу слегка уязвляло. Но если я и пообижался тогда за это володино неразделение моих пристрастий, то лишь краткое время. Потому что интуитивно понимал, что по всему складу Володи – духовному, эмоциональному, интеллектуальному – ему ближе была совсем иная музыка, совсем иные композиторы. И когда однажды за чашкой чая в кафе он сказал мне: – Признай всё-таки, что Моцарт более гениален, чем Шопен, – я скрепя сердце с ним согласился. Вместе со стихом была мне подарена однокурсниками грампластинка с сонатами Георга Филиппа Телемана для флейты и клавесина (догадываюсь, что тут без совета Володи не обошлось) в исполнении Валентина Зверева и Игоря Жукова, которую я часто и с удовольствием слушал. Так впервые я начал погружаться в музыку середины XVIII века. А в нагрузку с этой шла комплектом и другая пластинка – с речами Л.И.Брежнева на XXV съезде КПСС. Сейчас это кажется забавным, но тогда все соглашались с серьёзной миной: "Ну что же, дело нужное!"
Год 1980-й, февраль же
Современная музыка В те месяцы мы с Володей любили спорить по одному важному музыкальному пункту. Смешно и стыдно теперь вспоминать, но в 15 лет я наивно считал, что в двадцатом веке развитие музыкального искусства почему-то пошло не туда. Воспитанный с раннего детства на классике, я резко отвергал современную музыку с её диссонансами, с её зачастую трудноулавливаемой структурой. И чётко отделял от привычных произведений. Однажды Володя в пылу одного из таких споров без обиняков подвёл меня к одной из студенток своего курса: – Лена, вот этот друг Михайло считает, что между музыкой прошлого и современности существует некий кровоточащий шов, незаживаемая рана. Или даже глубокая расщелина! Это верно? (Прямо так я не говорил, но Володя творчески развил мои слова). Заведя глаза к потолку, Лена подумала и серьёзно ответила: – Ну, это вряд ли. Скорее, оно постепенно накапливалось, как нарыв – и наконец прорвалось!.. Вот так осторожно Володя пытался приобщить меня к музыке современности или хотя бы начала века. Он не видел шва между музыкальными эпохами, а видел их преемственность, видел развитие стилей, понимал его закономерности. Постепенно я осознал его правоту. И возможно, помог мне войти в музыку середины 20-го века Сергей Рахманинов. Ведь после Шопена моими любимыми композиторами стали Рахманинов и ранний Скрябин (в начале 80-х я часто исполнял их в концертах). Как уже говорилось, подготовительные курсы, на которые я ходил с ноября 1978-го, вели студентки. Но к концу учебного года нам, абитуриентам, посчастливилось поучиться и у некоторых «зубров» училища, то есть маститых преподавателей со стажем. Таких, как Борис Валентинович Можжевелов и его супруга Галина Арсеньевна Савоскина (она преподаёт там и сейчас). На двух последних занятиях по музыкальной литературе Галина Арсеньевна играла нам прелюдии Рахманинова, тогда я и полюбил его музыку, так выпукло передающую красоту русской природы. Но в некоторых вопросах Г.А.Савоскина стояла на консервативных позициях, как и другие наши преподаватели – например Ирина Михайловна Благодарная, заведующая отделом общего фортепиано. Когда Володя сдавал ей экзамен, она сказала: – Вы играете как композитор, а не как пианист. И поставила ему "4". Володина однокурсница Инесса Забежинская справедливо возмущалась по этому поводу: «Володя очень переживал, потому что уже тогда чувствовал, что хочет играть на клавесине и его туше действительно было клавесинное. Но как можно было додуматься до такой формулировки! Кто Володя?! Композитор! Почему он должен играть как пианист?! Он композитор и играет как композитор, почему это недостаток?! Он передает характер? Он слышит все голоса? Он играет осмысленно? Почему "4"?»
Год 1980-й, март
Квартирник и Разлив Наступил март. В Женский день мы собрались – не могли мы без сборов! – дома у нашей однокурсницы Светы Майоровой. Позвали с собой, как водится, и Володю. Это была большая старинная квартира возле Казанского собора, на улице Плеханова (теперь опять Казанской), с высокими окнами и потолками. Впечатлила меня и широкая, чисто петербургская лестница, украшенная чугунными перилами с завитушками. На входную дверь с наружной стороны наши «хохмачи» повесили разные весёлые плакатики. Родители Светы в то время пребывали в командировке в Монголии – жутко привилегированное по тогдашним меркам положение! – и мы, оставшись без контроля взрослых, отрывались, что называется, в полный рост! Молодёжь хохотала и травила разные истории. Затем импровизировали на пианино (были у нас излюбленные музыкальные приколы), в чём особенно преуспел, конечно, Володя, и пели под мой аккомпанемент письмо Татьяны к Онегину на мотив «Интернационала». А после этого играли в лотерею и даже в жмурки. Но любимым нашим курсовым развлечением в тот год была "Песня эфиопских пионеров". Однако ни разу мы не смогли довести это действо до конца, всегда оно срывалось на дружный смех. Всё это происходило параллельно с чаепитием. Каждый принёс с собой что-то к столу. А на меня сильное действо произвели разные импортные вещи в этой квартире, каких в нашей убогой жизни до этого не встречалось (конечно, я имею в виду не духовную её сторону, а бытовую). Особенно впечатлил ночник с разноцветной подсветкой, в котором расплавленные куски парафина в виде шаров медленно курсируют вверх-вниз, плавая в масле и сталкиваясь на пути. Не один я, разинув рот, долго не мог оторваться от восторженного созерцания этого зрелища, поэтому кто-то из нас (может быть, и Володя, не помню) остроумно окрестил эту вещь "Радость идиота". Так начался март. Весь месяц мы серьёзно учились, а в конце месяца кто-то из студентов второго курса бросил клич: – А не поехать ли нам в воскресенье за город? Все с энтузиазмом подхватили идею, в том числе некоторые третьекурсники и Володя, который ещё и обоих Миш позвал с собой – Журавлёва и меня, плюс Свету Майорову. Получилось содружество всех студентов-«теоретиков», то есть четырёх курсов ТКО, от первого до последнего. Вот так запросто взяли и поехали все! Шесть дней в неделю учеба, а как воскресенье – так возьмём и рванём куда-нибудь! Это было нормально тогда. Ездили в Разлив, к ленинскому шалашу. Неведомо до сих пор, случайно так вышло или не совсем – возможно, кто-то в училище следил за тем, чтобы такие вылазки были окрашены идеологически. В поездке участвовали также наши преподаватели сольфеджио Тамара Петровна Тихонова и Татьяна Ефимовна Бабанина со своим сыном лет девяти. Был с нами и композитор Александр Сергеевич Нестеров, тоже преподаватель училища. Больше я не знал никого, кроме хохотушки Марины Голиковой с 3-го курса. В электричке весело дурачились и играли в разные игры (например, ведущий должен был изобразить жестами какую-нибудь известную фразу, а остальные отгадать её). Стоял неумолкаемый хохот. А когда вышли в Тарховке на природу, к покрытому льдом озеру Сестрорецкий Разлив, пошли совсем уж вольные разговоры, поперёк идеологической направленности поездки. Училище «РимКор», как и школа-десятилетка через стену от него, отличалось свободой слова, там не было жёсткого контроля за разговорами. По крайней мере, так мне теперь кажется после учёбы в музпедучилище, откуда меня дважды едва не исключили за всяческие вольности. Вот и сейчас травили в дороге довольно опасные анекдоты. Началось по случаю (речь зашла о квартете Бородина), и – пошло-поехало: – Квартет, вернувшись из-за границы, превратился в трио. – Недовольными в нашей стране занимается КГБ, а довольными ОБХСС. – Народ и партия едины, но пищу разную едим мы! – «Пошутили и хватит!» – сказал Брежнев, переклеивая брови под нос. – Пшеничная водка по-другому называется "Колос Америки". – 2000-й год, страшный сон американского фермера – заголовок в "Нью-Йорк Таймс": "Колхозники Техасщины, Мичиганщины, Алабамщины и Примиссисипья досрочно приступили к весеннему севу". Володя рассказал любимейший свой музыкальный анекдот (он потом часто рассказывал его в разных компаниях):
– Товарищ, я внимательно наблюдал за вами всё выступление. Скрипки вовсю стараются, водят смычками непрерывно, духовики изо всех своих лёгких дуют в трубы и тромбоны! А что делаете вы? Один раз ударите – и сидите. Затем ещё раз стукнете – и снова отдыхаете. Нехорошо! – Но позвольте, у меня такая партия! – возразил ударник. – Нет уж, это вы бросьте! Партия у нас у всех одна. А стучать надо чаще!» В походе набрели на большую беседку и сделали в ней общий привал. А рядом с беседкой быстренько сварганили внушительного снеговика и назвали эту скульптуру почему-то «Стравинский». Может быть, за внешнее сходство. Затем опять вышли к озеру и принялись играть в снежки, причём Володя активно принимал участие в этой снежковой битве.
Год 1980-й, апрель
Поездки за город Так получилось, что с Володей мы общались в основном в загородных поездках. Началось наше сближение ещё со Дня здоровья в октябре 1979-го. Тогда мы ездили в Лемболово всем училищем. Шли лесными дорогами, разбившись на отделы: пианисты, духовики, струнники, теоретики, народники. На привале начали было мы разговаривать вдвоём с Володей, но эту беседу прервало песенное состязание между отделами. Наши ТКО-шники спели свою любимую: Если хлеба в рюкзаке уже ни крошки, А во сне тебе приснился каравай – Ты на этот каравай рот пошире разевай, Никогда и нигде не унывай! Если уши побелели от мороза, Ты внимания на них не обращай, Через несколько минут Они сами отпадут, Никогда и нигде не унывай! Если ты в одну из трещин провалился, Никакой ты суеты не поднимай, Через несколько минут, Или лет тебя найдут, Никогда и нигде не унывай! Духовики ответили им своей «высокогорной»: У альпиниста век недолог, И потому так сладок сон. Откинут серебрянки полог И где-то слышен крючьев звон. Рюкзак нальется, как чугунный. Такой под силу только мне! Не обещайте деве юной Четверку в двойке, по стене. Домбай-Ульген стоит стеною И кровь волнуется слегка. Крюк, что забит ее рукою - Я достаю без молотка! Через плечо меня страхуя, Она в безумной вышине… Не доверяйте деве юной Свою страховку на стене. Опять холодная ночевка И баба с примусом сидит. Горит, горит моя пуховка, И спальник новый мой горит. Огонь пылает, как безумный И подбирается ко мне! Не доверяйте деве юной Готовить пищу на стене. А пианисты спели «Антитуристскую»: Мне очень жаль, что широка страна родная, И очень много в ней лесов, полей и рек. Но я мотаюсь по стране, как неприкаян. Моя подруга – ненормальный человек! Как тот солдат, я так давно не видел маму, Не видел ванны и домой хочу вообще, Чтоб после бани влезть в любимую пижаму И до отвала обожраться кислых щей. Жаль, ты – туристка, и в этом соль, И постоянно раздражает твой рюкзак. От всех походов меня уволь, Нам абсолютно не подходит этот брак. Это всё отдельные, обрывочные куплеты, что вспомнились. Записал я их для того только, чтобы показать царившую тогда среди нас атмосферу. Всю зиму мы ездили нашей ТКО-шной компанией в Пушкин. Там, в Екатериниском парке, проходили у нас занятия физкультурой на лыжах, которые мы брали на базе, что располагалась прямо в здании. Володя по возможности присоединялся к нам. На лыжах он ходил очень неплохо. А в апреле взяли да и поехали в одно из воскресений то ли в Сосново, то ли в Орехово. Тут уже чисто по своей инициативе. Состав был небольшой, человек десять. Наш курс ТКО плюс Володя. И вновь марш-бросок через леса, а затем привал. Вот тогда-то мы наговорились вдвоём от души! О позднем Скрябине, о первых троллейбусах, о космосе и чёрных дырах, о средневековом многоголосии и джазе. Я очень быстро проникся незаметным поначалу обаянием Володи и его мощным интеллектом. Юность всегда ищет себе авторитетов, а мне ведь тогда было только 14. На привале Катя Смирнова, когда друг мой ушёл в лес за дровами, сказала мне полушутливо: – Нравится тебе Володька, да? Интересный парень. – Ага. Он мне напоминает Пьера Безухова, – зачем-то ответил я. – Ну нет, что ты! – возразила она. – Пьер – он простодушный такой, открытый. А Володька – тот лукавый, себе на уме, с хитрецой. Как будто какие-то мысли всё время скрывает. Правда? Я что-то сухо отвечал и после во весь путь молчал…
Год 1980-й, май
Велопробег и другие встречи Первого мая мы обязаны были всем курсом пойти на «всеобщую добровольную демонстрацию трудящихся», проходившую, как всегда, в самом центре города – Дворцовая площадь, Невский проспект и т.д. Но когда мы собрались у входа в училище, то поняли, что никуда идти не хотим. Под предлогом того, что движение общественного транспорта перекрыто, и до места нам ну никак не добраться, мы взяли да и пошли в кино. Володя присоединился к нам. Рядом находился Дом Культуры имени 1-й пятилетки, в нём часто крутили самые свежие кинокартины. Мы попали на вышедший недавно фильм «Москва слезам не верит», с удовольствием посидели в зале на «почти премьере» и до сих пор не жалеем о содеянном, а затем уж разъехались по домам. В том же мае, помню, был концерт в Малом зале Консерватории. Исполнялись в основном хоровые произведения (жаль, программки не сохранилось – а может, её и не было). Причём самых современных авторов – но не начинающих, а тех, кто уже был в силе, – в том числе и нашего В.А.Сапожникова. Незадолго до этого он написал кантату «Прекрасный месяц май» для смешанного хора и четырёх флейт на стихи Вероники Тушновой, Юнны Moриц, Риммы Казаковой и Юлии Друниной. Это было первое её исполнение. В антракте я услышал, проходя мимо двух женщин, как одна сказала другой об этом произведении: «Какая прелесть!» Потом, уже в холле, Володя спросил меня: – Как твоё мнение о «Мае»? Я ответил, смущаясь: – Ну, так, прелесть в общем-то! Наши девчонки услышали и были в восторге от моего ответа, хотя он был и не моим. По поводу другого какого-то хора в том же концерте Володя пошутил, перефразируя цитату из Ленина: «В хоре революционная ситуация: верхи не могут, а низы не хотят» (уже тогда мы друг друга не боялись и могли шутить так политически-фривольно). И наконец, май того 1980 года завершился для нас велопробегом из Репино в Сестрорецк и обратно. Было нас семеро: Жанна Краснова, Света Ветлова, Таня Силина, Таня Демитриадес, Володя Радченков, Миша Журавлёв и Миша Строков, ваш покорный слуга. Велосипеды взяли напрокат – такой услуги давно нет, а тогда это было запросто. Но когда сели за рули, вдруг выяснилось, что Жанна, о ужас, прежде никогда не садилась на велосипед! Тогда Жанну вызвался везти я, на раме – и на первых же километрах завёз нас обоих в кювет, куда мы благополучно и свалились. После этого она гневно отказалась от моих услуг и пожелала всё-таки научиться ездить сама. Неутомимый Миша Журавлёв тут же начал самоотверженно учить её премудростям велоспорта (чего это ему стоило – смотри его лицо на фото, а Володя на заднем плане, легко и непринуждённо управляясь со своим транспортом, смотрит на эти потуги скептически). Но закончилось дело всё же тем, что Жанну повезла на раме Таня Демитриадес. Наша кавалькада отправилась по нижнему Приморскому шоссе. Тогда движение там было, конечно, поменьше, так что путешествовать по нему что пешком, что на велике, было куда свободнее, чем теперь. Ехали долго, чуть ли не с час. Заехали в Дюны и погуляли по песку на берегу Финского залива. А затем сделали привал в лесу. В общем, тот велосипедный день стал незабываемым! Как и весь «прекрасный месяц май».
Год 1980-й, июнь
Опять на заливе Из наших загородных поездок того года запомнилась ещё одна, в самом начале июня. Несмотря на гонку с летними экзаменами (и выпускными, и вступительными), Володя находил время для таких вылазок и непременно звал на них меня. Погода стояла довольно холодная, были мы все в куртках и даже шапках. В тот раз нас собралось всего пятеро: одна девушка, Света Майорова, и четыре «мальчика» – как всегда, Володя и мы, два Миши, плюс присоединился к нам ещё бородатый художник по имени Павел Мартов, лет на десять старше нас всех. Не знаю, откуда он взялся среди нас и чей это был друг-знакомый, но больше я с ним ни до, ни после этого не встречался. Наш пеший бросок был тогда довольно значительным: если не ошибаюсь, от Солнечного до Сестрорецка! Но при этом мы умудрялись много общаться, да ещё играть какие-то сценки; инициаторами их были в основном Володя с Пашей, а я по своей незрелости лишь послушно исполнял, что говорят. Но сейчас, глядя на фото, уже не пойму и не вспомню – что это мы тогда пытались изображать? Тот поход у меня в памяти связан с песком. Песок присутствовал постоянно, он окружал нас и на берегу залива, и в каких-то карьерах, которыми мы пробирались. Во-первых, Паша Мартов научил нас наблюдать за муравьиными львами – насекомыми, которые роют в песке воронки и, сидя на дне, ожидают, когда скатится туда незадачливый муравей или другая добыча, а затем хватают их. Во-вторых, как художник, Мартов постоянно находил разнообразные красоты в окружающих песчаных пейзажах и в молодой зелени на них, и просил меня их фотографировать. В третьих, на склоне одного из карьеров мы вырыли в песке огромный след, якобы оставленный ногой какого-то циклопа, выложили из камешков наши имена и сфотографировались рядом. В-четвёртых, наткнулись на пустующий гусеничный кран, с крыши которого долго прыгали на песок и качались на висящих тросах. И в-пятых, выполняли какие-то гимнастические трюки на песке, которым обучил нас тот же изобретательный Паша. Кстати, насчёт пейзажей. Когда мы любовались одним из них, Паша вдруг спросил: – А у вас, ребята, ничего не разворачивается в душе, когда вы представляете себе, что на эту вот красоту наступает чей-то кованый сапог? – Да, само собой! – тут же отозвался Володя. А Миша, верный своей привычке к спорам и парадоксам, ответил: – Скорее, наоборот: съёживается. На подходе к Сестрорецку Паша вдруг сказал: – Обратите внимание, как женщины загорают! Мы обернулись и увидели двух стоящих без «верха» женщин, прислонившихся к большому дереву спиной к нам. Паша объяснил, что мы проходим через известный в среде художников и прочих людей искусства «дикий» пляж в Дюнах (тогда ещё он, понятное дело, он не «функционировал» так свободно, как с начала 90-х). В связи с увиденным заговорили о женщинах. И тут Павел Мартов чётко и уверенно выдал фразу, которая врезалась мне в память: – Женщина – это резкий диссонанс в природе! Поскольку возраст наш как раз вошёл в этап «играй, мой гормон», то мы с Володей, подогретые увиденным и не в силах остановиться, продолжили тему женщин и, оторвавшись на ходу от прочих туристов, доверительно поделились друг с другом нашими симпатиями. Он поведал мне об одной студентке, которая ему на тот момент нравилась. А я, уже успевший в свои 15 отбегать за однокурсницей и разочароваться в ней, мудро заявил ему: – Ничего, пройдёт, со мной уже такое было. – Кто же это? – заинтересовался он, и, когда я назвал имя, очень испугался за меня: – Ой-й-й, ой-й-й-й-й!!! Не дай-то бог! Решили зайти в репинские «Пенаты», коль уж проходили мимо. Этот музей-усадьба оставил неизгладимое впечатление! Сюда можно приходить за творческим зарядом, если он иссяк. Таинственные притенённые комнаты – каждая, словно отдельное художественное произведение, со своей аурой. Веранда, на которой великий художник спал даже в мороз. Живописный ухоженный парк вокруг – источник вдохновения. В отличие от прочих, для меня это было первое его посещение. Сейчас-то в залах аудиозаписи или аудиогиды, а тогда экскурсии проводили живые люди. Причём видно было, что работники музея очень преданы своему делу. Нам попалась приятная ведущая, научный сотрудник. Рассказывала искренне, не формально, и живо отвечала на все наши вопросы.
Год 1980-й, июль
«Конса» и кино В то лето Володя с успехом выдержал вступительные экзамены в Консерваторию. Со стороны казалось, что поступил он как бы между прочим, мимоходом, и что при его талантах, интеллекте и памяти это не составило труда. Но, наверно, экзамены всё-таки стоили ему и серьёзных усилий, и нервов. А я тогда покидал училище. Когда Володя узнал об этом, он сильно огорчился. Но я ещё в октябре решил уходить из «РимКора» и поступать заново, на первый же курс, в музыкально-педагогическое училище № 6, где училась тогда моя сестра Света (только потому, что других училищ просто не знал). Никому не говорил до последнего о своём решении и доучивался весь учебный год. Тогда я считал это единственным выходом. Меня с потрохами съел комплекс неполноценности, день ото дня усиливавшийся в стенах училища, особенно в окружении юных интеллектуалов с апломбом. Сейчас-то это смешно, но в 14-15 лет слишком серьёзно относишься к иным вещам. Конечно, сегодня бы я так не поступил, ибо один тот год учёбы в училище при Консерватории дал мне больше знаний, нежели четыре последующих года учения в музыкально-педагогическом училище плюс пять лет института Герцена. Теперь-то я понимаю, что надо было перетерпеть и остаться. Жаль, что не посмел я сразу поведать Володе о том своём осеннем решении и сказал ему о свершившемся пост-фактум, когда документы уже были забраны. Возможно, он отговорил бы меня от этого шага. Поскольку в то лето я впервые не поехал в Крым (из-за того, что ожидал обследования в больнице), то встречались мы с Володей понемножку и в летние месяцы. В основном это были походы в кинотеатры. Тогда вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», и люди активно бегали на него. Мы пошли тоже. Будоражащие кадры пожара в горах и захватывающие события в самолёте, конечно, производили на всех сильное впечатление. Но позади нас сидели два профессиональных лётчика и умирали от смеха в некоторых весьма драматических местах фильма. – Ну что же, я их очень даже понимаю – слишком много ляпов! – сказал Володя уже на улице. Вот такое у него было профессиональное отношение ко всему. Из киношных новинок важным событием стали в то лето «Маленькие трагедии» М.Швейцера, премьера которых состоялась на телевидении 1 июля того же 1980 года. Во время той премьеры ещё был жив Владимир Высоцкий, сыгравший в этом фильме свою последнюю кинороль. Но Володе почему-то эта работа Высоцкого не понравилась. Дон Гуан, говорил он, получился простоватым, а он ведь испанский аристократ! Помню, как саркастически пародировал Володя один момент фильма: «О, тяжело – тьфу! – пожатье каменной его десницы!» Но при этом, чтобы как-то сгладить свою резкость, Володя тут же весьма положительно отозвался о работе Высоцкого в фильме «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»: – А над ролью Ганнибала он хорошо потрудился – серьёзно, вдумчиво!.. Тогда ещё мало кто мог оценить в полной мере масштаб личности Высоцкого – главным образом, конечно, его поэтического гения. А я и вообще почти не знал его творчества, разве что слышал песни о горах из кинофильма «Вертикаль», которые дома «крутил» иногда мой отец. Володя же иронично называл Высоцкого «новым Иисусом», который якобы любит показывать миру свои страдания. И опять каждый раз, дабы подсластить пилюлю, одёргивал сам себя, тут же говоря, например, о "Жирафе" или "Песенке о переселении душ" (Володе в основном нравились сатирические его песни): – Зато вот здесь он здорово сказал, отличные нашёл слова! Потом мы не раз будем спорить о Высоцком – особенно после того, как я через пару лет фанатически увлекусь им и буду перепечатывать на пишмашинке сборники его песен и стихов. Я коллекционировал его песни, мотаясь по всему Ленинграду с большим бобинным магнитофоном «Дайна» и переписывая всё подряд у всех подряд, даже у почти незнакомых людей, лишь только узнавал, что у кого-то есть что-то «новенькое» (интересно, что никто ни разу не отказал мне, несмотря на моё, наверно, слишком активно-навязчивое поведение; вот что значит братство поклонников!).
Год 1980-й, август
Внимаю мастеру Знойная «Олимпиада-80», во время которой 25 июля в 5 часов утра умер Владимир Высоцкий, прошла как-то мимо нас с Володей, хотя в больнице на Фонтанке, куда я попал в те дни на обследование, всё ходячее население прилипало намертво к телевизорам и, затаив дыхание, следило за соревнованиями. А у меня в первую больничную ночь (всё-таки испытание для 15-летнего домашнего мальчика) родилась музыка, которая через год вошла в цикл «10 прелюдий» – пьеса ужасно мрачная, состоящая из давящего наползания триольных аккордов. И только через несколько лет я узнал, что Высоцкий умирал именно в ту ночь. Разумеется, совпадение, но всё же… Позднее я сыграл Володе эту Прелюдию ре минор у меня дома. То был единственный раз, когда я показывал ему своё сочинение. Он внимательно прослушал всю вещь и сразу дал дельный совет: – Хорошо бы в развитии раскрепостить бас. Он у тебя слишком статичный! Этому замечанию я последовал и в ближайшие дни переработал линию баса. Ещё он добавил пару положительных замечаний: – Игра тональностей хороша, и так они выстроены, что действует сильно. А этот октавный спуск после кульминации вообще великолепен! Но только через год до меня дошло, что я просто "слямзил" этот спуск из начала си-минорной сонаты Листа. Так что володину похвалу переадресовываю к великому Ференцу. А тогда я был окрылён и очень благодарен Володе за эти слова профессионала, который знает предмет изнутри. Ведь сам он не только поступал тогда в Консерваторию, но и активно писал новую музыку. Тем летом появились на свет некоторые из его виолончельных произведений, вокальные сюиты и камерные пьесы для разных инструментов (очень надеюсь, что со временем смогу поведать об этих его произведениях подробнее и даже выложить их сюда; жаль, что до сих пор они почти нигде не исполнялись). Часто посещал он Ленинградский Союз композиторов и стал там своим человеком, хотя формально так и не был в него принят. Композитор и пианист Игорь Эдуардович Друх недавно жаловался мне: – Мы несколько раз подавали в секретариат Петербургского отделения предложение принять Владимира Радченкова в Союз Композиторов. Но его каждый раз отклоняли. Брали кого ни попадя, а такому таланту дорогу закрывали! Володя шёл по избранному пути прямо и без колебаний, а я тогда не был уверен в правильности своего поступления в муз-пед-училище, куда только что сдал вступительные экзамены (после «РимКора» это было легко). Поэтому и спросил его: – Как ты думаешь, стоит ли мне и дальше заниматься музыкой, сочинительством? На это он спросил ответно: – А ты что, сочиняешь? – Ну, так, немного… – Ну-ка, покажи что-нибудь из своего! Тогда-то мне и пришлось сыграть ему свою Прелюдию ре минор (позднее с подзаголовком «на смерть Высоцкого»). И уже после прослушивания и замечаний Володя сказал: – Да, наверно, стоит! Я ведь почему тебя попросил сыграть? Есть такая притча. Путник спросил, проходя мимо старика: «Скажи-ка, любезный, сколько мне ещё идти до города?» – «Ты иди!» – ответил старик. «Но скоро ли я дойду?» – «Ты иди!» – Путник пожал плечами и пошёл. Через некоторое время старик окликнул его: «Эй! К заходу солнца дойдёшь!» – «Что же ты сразу не сказал?» – «А мне надо было посмотреть, как ты идёшь!»
Год 1980-й, сентябрь
Его учителя Маленькое отступление в связи с Володей и Союзом композиторов. Недавно в Доме Композиторов, теперь уже Петербургском, проходил авторский вечер Владимира Радченкова и других современных музыкантов. Проходил он в рамках цикла под названием «Галерея портретов», который ведётся всё тем же неутомимым Михаилом Журавлёвым с 1997 года (при сотрудничестве с радио «Мария»). Михаил произнёс перед этим концертом вступительное слово. Вот что он сказал:
Когда я поступил в училище, там уже были – я смотрел на них, как на двух мэтров, они были старше меня – Андрей Фролов и Владимир Радченков. И наш учитель Владимир Алексеевич Сапожников всегда в начале сентября собирал весь свой класс. Каждый приносил то, что он приготовил за лето. Помню смятение, которое охватило меня, когда я увидел внушительного, большого Володю Радченкова, который смело ринулся к роялю, разложил огромную кипу листов и начал что-то играть. Следом за ним появился ещё один увлекательный персонаж – к сожалению, он сейчас практически не фигурирует на сцене, а между тем, это очень талантливый композитор Алексей Шишко, – который завалил Сапожникова на первом занятии ещё бОльшим количеством нотной бумаги, исписанной мелким неровным почерком, и солировал где-то на протяжении минут двадцати. После этого я со своим листиком, на котором что-то было нацарапано, почувствовал себя мальчиком для битья. И каково же было моё удивление, когда два мэтра, два старшекурсника Андрей Фролов и Володя Радченков (а я первокурсник, на первом занятии, на первый урок по композиции в жизни – поскольку я не учился композиции в музыкальной школе) подошли ко мне именно как к товарищу, и к поступившему вместе со мной Антону Яковлеву, протянули руку и сказали: «Ну, давай знакомиться!» И не было никакой дистанции, а было одно лишь музыкальное товарищество, и мы подружились на всю жизнь. Мы все оказались очень разными. Я надеюсь, что разница эта сегодня будет слышна – как будет слышно и то, что всё-таки мы птенцы одной школы! Мне очень радостно, что спустя долгое время наконец в этих стенах зазвучит музыка моих уважаемых коллег, которая, к сожалению, не очень часто звучит в этом зале. Вот такой рассказ о событиях, происходивших ровно за год до описываемых здесь. Жаль, что не удалось в тот раз раздобыть видеокамеру и запечатлеть исполнение володиных сочинений. Надеюсь, что такое ещё состоится. Сам к тому совершенно не стремясь, Володя стал одним из главных моих учителей в жизни. Он был рад ответить на любой мой вопрос, причём отвечал очень понятно и просто. Находясь рядом с ним, я наслаждался его интеллектом, его знаниями и его тягой, пусть даже немного детской, к чистоте в отношениях людей. Его уже тогда отличала предельная честность. Дело доходило до забавного – например, однажды он сказал мне, что ему не нравится песня Булата Окуджавы «Давайте восклицать!»: – «Давайте говорить друг другу комплименты» – зачем это? Ведь по сути выходит: давайте говорить то, чего нет? Он всегда инстинктивно избегал людей непорядочных, от которых можно было ждать чего-то подлого, нехорошего. О поступках одного из наших знакомых он однажды заметил: – Мне так всё это противно, что и говорить об этом не хочу! Нередко он приводил примеры "правильных", возвышенных отношений из мира художников, творцов. Но свои учителя были и у него. Первым консерваторским наставником Владимира Радченкова по композиции стал Владимир Иванович Цытович, родом из Белоруссии. Тогда он ещё не был профессором. Помимо композиции В.И. Цытович преподавал чтение партитур и инструментовку (в то время он даже был заведующим кафедрой инструментовки). – Это два главных моих учителя в жизни по композиции, – говорил Володя много позднее, – Владимир Алексеевич Сапожников в училище и Владимир Иванович Цытович в Консе. Вот что пишут о В.И.Цытовиче различные официальные издания: «На кафедре композиции долгие годы он считался «специалистом по особо сложным случаям», как психологическим, так и творческим, благодаря ему многие конфликты, так или иначе, находили своё решение. Отличаясь необычно терпеливым и вдумчивым («либеральным») отношением к самым свободным творческим экспериментам, не раз он брал к себе в класс и даже под личную защиту студентов, от которых отказывались все профессора и которым, так или иначе, грозило исключение из консерватории. Бывали такие случаи, когда другие педагоги прямо обращались к Владимиру Цытовичу с просьбой «забрать» к себе «сложного» студента, но иногда он и сам, по собственной инициативе вмешивался в непростые ситуации, чем предотвращал не только разрастание конфликтов, но и, возможно, полный уход студента из профессиональной среды...» «В педагогической деятельности Владимира Цытовича едва ли не в полной мере проявились особые черты его личности: деликатный, тонко чувствующий студента, не склонный вмешиваться в чужую внутреннюю жизнь, он был идеально создан для мягкого, почти незаметного руководства «исподволь». «Он никогда не ругал и не осуждал студентов и как будто даже не вмешивался в их внутреннюю творческую лабораторию». И ещё немного об этом человеке, уже из неофициального:
Не отсюда ли растут ноги у того «прохладного» стиля, которого он придерживался всю жизнь?.. Пресловутый неоклассицизм, дающий автору едва ли не самое надёжное укрытие…»... (Борис Йоффе о В.Цытовиче и Ю.Ханине, 1985 г.) Кроме Цытовича, Володя успел даже поучиться немного у самого Бориса Александровича Арапова, то есть «учителя учителя», воспитавшего, кроме В.И.Цытовича, большую плеяду известных ленинградских композиторов – таких, как И.И.Шварц, Ю.А.Фалик, Г.И.Фиртич, Г.И.Банщиков, Б.И.Архимандритов, Л.А.Десятников, А.А.Кнайфель, Д.А.Толстой, В.А.Успенский, С.М.Слонимский множество других. Об Борисе Арапове я впервые узнал из рассказа Ираклия Андроникова «Трижды обиженный» (устные рассказы прославленного мастера этого жанра иногда шли по телевидению). В том рассказе Арапов ещё совсем молод и горяч. Выступления Ираклия Луарсабовича я с увлечением записывал с телевизора на магнитофон, а затем переслушивал по много раз. Особенно нравились мне его рассказы о И.И.Соллертинском (один из них – именно тот, «Трижды обиженный»; да ещё самый, пожалуй, знаменитый рассказ Андроникова «Первый раз на эстраде»). Постепенно и Володя у меня стал ассоциироваться с этим легендарным искусствоведом и лектором довоенной эпохи нашего города, известным своей широчайшей эрудицией и феноменальной памятью. Иногда я даже хвалился знакомым «своим Соллертинским». По совету Цытовича параллельно с занятиями композицией Володя записался в класс органа к Нине Ивановне Оксентян – выдающейся органистке и прекрасному педагогу. Она с успехом преподаёт и сейчас, будучи в весьма преклонном возрасте. Интерес к органу был у Володи и раньше. Ещё в мае, незадолго до велопохода, мы ходили с ним в Большой зал Филармонии на выступление великолепного органиста Сергея Цацорина (моей сестре Свете посчастливилось позаниматься в его классе ещё в музыкальной школе), исполнявшего произведения Баха, Листа, Франка и Мессиана. А перед этим слушали там же как наших исполнителей на органе – Бориса Романова и ту же Нину Оксентян, так и зарубежных – Альберта Боллигера, Хуго Лепнурма, Леона Батора, Бернардаса Василяускаса, Йоханнеса-Эрнста Кёллера. Уроки у Нины Ивановны были исключительно полезны, они воспитывали вкус и умение правильно работать с фактурой, расширяли музыкальный кругозор и развивали полифоническое мышление, что потом очень скажется на музыке Владимира Михайловича Радченкова. Учителя Владимира Радченкова по композиции, органу и клавесину: Владимир Алексеевич Сапожников, Борис Александрович Арапов, Нина Ивановна Оксентян, Владимир Иванович Цытович, Борис Иванович Тищенко, Иван Васильевич Розанов.
Год 1980-й, октябрь
И вновь культпоходы С той осени мы в течение двух последующих лет стали видеться с Володей сравнительно редко. Меня целиком захватила учёба в музыкально-педагогическом училище, а его – в Консерватории. Для нас обоих началась новая жизнь. Я вообще предполагал тогда, что училище при Консерватории и иже с ним – это уже моё прошлое, пройденный этап. Что не придётся больше мне встречаться, возможно, ни с одним из бывших однокурсников, ни даже с Володей. И если бы не Света Ветлова, однажды в начале октября вдруг позвонившая мне – просто так, узнать, как дела – так оно, возможно, и было бы. Неожиданный звонок этот настолько меня удивил и растрогал, что я по окончании разговора, лишь только положил телефонную трубку, тут же сел к пианино и сочинил что-то нежно-розовое в соль-диез миноре под неоригинальным названием «К ней». После этого постепенно возобновились мои встречи со Светой и Жанной (они обе, как и Володя, с детства учились вместе в одной музыкальной школе и дружили), а через них – и с другими нашими однокашниками. Кажется, Володя тоже очень был рад нашим с ним новым встречам. В воскресенье 5 октября мы опять съездили на природу в леса Карельского перешейка. Было нас восемь человек. Володя всё время увлекал нас интересными рассказами во время дороги и на привалах. Видно было, что ему очень комфортно в такой компании. А вскоре после этого лесного похода, дней через десять, Володя позвал меня на выставку музыкальных инструментов из Германии, которую проводила немецкая фирма «Demusa» из города Клингенталь, на самой границе с Чехией. Располагалась выставка рядом с музыкальной библиотекой «на Охте», куда дорожка у нас, студентов-музыкантов, была уже хорошо протоптана. Какими-то чудесными путями Володя раздобыл приглашение на двоих, где было написано: "Внешнеторговая фирма ГДР «Демуза» и Министерство культуры РСФСР имеют честь пригласить Вас посетить СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ВЫСТАВКУ-ПОКАЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Выставка открыта с 14 по 20 октября 1980 года с 12-00 часов до 19-00 часов в Выставочном зале Союза художников РСФСР, Ленинград, Большеохтинский проспект, дом 6. На выставке представлены музыкальные инструменты: пианино, рояли и старинные клавишные инструменты". Конечно же, эти последние интересовали нас более всего, поскольку в нашей стране был ощутимый вакуум в клавесинной сфере. Мы пришли в восторг от изобилия старинных (хотя были среди них инструменты и вполне современного производства) клавесинов, они же клавичембало, они же кильфлюгели и харпсихорды, а также всевозможных клавикордов, спинетов с диагональными струнами и их подвида вёрджиналов, уже с горизонтальными струнами. Было в них от одного до трёх мануалов (правда, клавесины с утроенными мануалами делались только в Гамбурге). Инструменты были всевозможнейших форм: с загруглёнными и трапециевидными крышками, похожие на рояльчики и на гусли, а также шкатулкообразные, с инкрустацией и картинами на крышке – настоящие произведения искусства! Пару инструментов Володе даже удалось «попробовать» После выставки мы долго не могли отойти от впечатления и ходили допоздна по набережной Невы, обсуждая увиденное. С началом концертного сезона возобновились и походы в Филармонию. Но теперь я посещал её в основном без Володи, поскольку активно продолжал бегать на пианистов-шопенистов. Чаще всего ходил с отцом или сестрой Светой, которую тоже увлёк «своим» Шопеном. Элисо Вирсаладзе, Станислав Иголинский, Мария Гамбарян, Григорий Соколов, Виктор Ересько, Екатерина Мурина, Татьяна Николаева, Владимир Крайнев – сами эти имена уже звучали музыкой! Впрочем, однажды мы с Володей сходили в ту осень в Большой зал послушать скрипача Бориса Гутникова, который играл с «дмитриевским» оркестром Первый скрипичный концерт Прокофьева. В тот же вечер исполнялись Третья симфония Брамса и хореографическая поэма «Вальс» Равеля. Мне очень нравилась также Оперная студия – нравилась куда больше, чем «Мариинка» (тогда ещё Кировский театр), расположенная напротив, через площадь. Почему-то мне казалось, что в Консерватории ставят оперы куда более живо и не «закостенело», ведь пели в её Оперной студии в основном вчерашние студенты, а иногда и сегодняшние. Именно там я впервые прослушал оперы Моцарта «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все», а также «Кармен» Бизе, «Фауста» Гуно, «Евгения Онегина» Чайковского и ещё много чего из оперной классики.
Год 1980-й, ноябрь
Очередной сабантуй 6 ноября, в канун главного праздника страны, состоялся ещё один студенческий «квартирник», куда был приглашён и я. Приятно было, что не забыли о бывшем однокурснике. На этот раз собирались дома у Миши Журавлёва на Манчестерской улице, в районе Удельной. Кроме 2-го (теперь уже) курса ТКО с нами оказалось ещё много других личностей, от Сергея Близнецова до нашей классной руководительницы Натальи Евгеньевны. Ну и, разумеется, как же было обойтись без Володи, который умел произносить такие остроумные тосты! Было шумное чаепитие с шутками и хохотом. Не помню, что там было с вином, я тогда был далёк от таких вещей – но полагаю, что если оно и имело место быть, то Наталья Евгеньевна как-то следила за «расходованием материалов». Продолжилось дело бурными танцами. Катя Смирнова учила меня танцевать, но при моей тогдашней зажатости я был неуклюж и изрядно оттоптал ей ноги. А под конец все уже просто «отрывались по полной», играя разные сценки. Особенно в ударе был Антон Яковлев, который весело дурачился со свойственным ему артистизмом и был в центре спектакля: он изображал похороны самого себя в коробке из-под торта, а остальные подыгрывали ему. Два слова, забегая вперёд: его актёрский дар не пропал всуе – потом Антон преподавал в Театральном институте. А перед этим он окончил Консерваторию, но что любопытно – в музыкальной школе он никогда не учился, и при первом поступлении в наше училище с треском провалился, потому что почти ничего не знал и не умел. В этом он сам мне признался, когда мы шли по улице по окончании первого дня нашей с ним учёбы, 1 сентября: – Ну ни финты я не знал тогда! Ни нот, ни названий аккордов. Зато потом поднатужился, нагнал программу за год и вот теперь поступил. Когда в декабре был концерт учеников В.А.Сапожникова, – Миша Журавлев, помню, играл тогда свою до-минорную сонату с фугой в финале, Жанна Краснова сочинила что-то на фольклорные мотивы (до сих пор две главных темы могу сыграть обеими руками, настолько врезались в память), – Антон удивил публику своей пьесой «Водоворот»: в конце её он взял две лежавшие с краёв клавиатуры расчёски и водил ими по ней туда-сюда. Его напористость помогла ему подняться в 90-е годы, когда он стал известным исполнителем русского шансона. В то время он начал работать на «Радио Рокс» и прошёл путь от редактора до генерального директора. Шикарная одежда, дорогой автомобиль и прочие блага жизни были им вполне заслужены и стали возможны благодаря его пробивному характеру. Помню, как ещё на первом курсе Миша говорил о нём: – Наш Антон – парень тёртый! Всё это будет потом, а тогда я думал, скованно сидя в углу: ну почему, почему я не могу вот так же запросто шутить, кривляться и смешить девчонок? Почему должен только наблюдать? Чуть позже я пытался иногда подражать замашкам Миши и Антона, но выходило глупо и смешно. «Таки у каждого свой путь», – сказал как-то Володя.
Год 1980-й, ноябрь же
Лермонтов, Раевский и Бенуа Зато возвращались мы с той вечеринки вдвоём с Володей, причём решили пройтись, несмотря на холод и позднее время, аж до метро «Академическая», в районе которой я жил. То есть вышло так, что он меня проводил. Это была одна из первых наших прогулок по городу после клавирной выставки. Затем такие прогулки совершались у нас постоянно все 1980-е годы, и из каждой я выносил массу интересных сведений. Сначала хотели пройти Сосновку насквозь, но было темно, так что пошли по периферии – вдоль проспекта Тореза, а затем Светлановского. И вдруг на этом повороте Володя остановился и сказал: – А вот здесь была дуэль Лермонтова! – Как то есть? – опешил я. – Она ведь была на Кавказе, под Пятигорском, это всем известно! – То была последняя дуэль! А это первая, с Эрнестом де Барантом. – И когда она случилась? – Почти за полтора года до той, кавказской. На шпагах дрались, потом стрелялись. Но всё окончилось хорошо, никто не пострадал. Надо же, сколько всего мы ещё не знаем!.. И хорошо, что рядом есть такой Володя, который запросто делится знаниями! Так я подумал, и очень кстати – буквально через пять минут, когда мы прошли мимо пляжа Ольгинского пруда, он же «Байкал», он же «Бассейка» (тогда ещё в нём все запросто купались), я вдруг услышал: – Мы сейчас стоим с тобой на самом узком проспекте в нашем городе! Это проспект Раевского. – А вот и нет! – я радовался случаю уличить Володю в незнании. – Это не проспект, а проезд. Его называют проспектом ошибочно, потому что в картах написано «пр.». Даже водители автобусов всегда объявляют: «Следующая остановка – проезд Раевского». Уж они-то знают! – А вот и нет! – Володя в свою очередь уличил меня. – Именно проспект! А ошибочно – проезд. Ну и что из того, что он почти весь из грунтовки? Его так назвали в 1924-м, когда этот район строился. Давно пора эту ошибку исправить! Чтобы скрыть своё смущение, я спросил: – Что это за Раевский? Кажется, герой войны с Наполеоном, генерал? Но почему только в советское время назвали его именем? – Нет, то другой Раевский. А этот – инженер, конструктор паровозов ещё с царских времён. Как раз в 1924-м он погиб на испытаниях – паровозом-то его и зацепило. Вот тогда, в память, и появился проспект Раевского, поскольку он здесь, в «Политехе» преподавал. Точно проспект, а не проезд! Уложенный на обе лопатки, я сказал только: – Вот уж не знал, что он самый узкий в Ленинграде. Теперь буду гордиться, что рядом живу! Меня поразило, насколько хорошо Володя знает Гражданку, живя при этом на противоположном конце города, почти у границы с Купчино. Как же он тогда, наверное, изучил свой район, Московский! Миновав серию пятиэтажек, мы остановились возле интересного деревянного строения с башней между проспектами Науки, Тихорецким и Светлановским. Этот большой старинный дом был мне хорошо знаком с самого раннего детства. Кругом возвышался берёзовый лесок среди небольших холмиков и канав (потом оказалось, что это дренажная система, построенная в начале 20 века вместе с домом). Мы часто гуляли здесь с семьёй, а затем, уже в первые мои школьные годы, сюда приходил на прогулки наш класс. Собирали осенние листья и подберёзовики. Иногда мне удавалось даже разглядеть за окном на подоконнике какие-то интересные вещи: старинные статуэтки, книги, наборы карандашей и кисточек в расписном деревянном стаканчике… Позднее, помню, я удивлялся: чья же это большая старая дача затерялась среди городских строений? И теперь Володя вновь поразил меня: – Знаешь, что это такое? Это дача Бенуа! – А кто это? Вроде знакомая фамилия. Володя оседлал любимого конька и с удовольствием принялся просвещать меня: – Был такой архитектор Юлиус Бенуа. У них вообще вся семья интересная была, причём семья огромная, сотни людей – дворянский род, люди искусства, в основном художники и архитекторы. И вот он то ли выкупил, то ли взял в аренду этот кусок земли – довольно обширный, в 10 гектаров, и построил здесь дачу по своему проекту, а рядом ферму. Вон там стояли коровники, силосная башня, была даже ветряная водокачка! А башня эта – видишь? – была и пожарной каланчой. Так я впервые узнал от Володи о даче Бенуа. И позднее рассказывал о ней другим, даже приводил к ней своих гостей, приезжавших посмотреть город. А уж в компании наших друзей – Жанны Красновой, Светы Ветловой и Сережи Васильева – мы с Володей потом приходили сюда не раз. К огромному сожалению, несколько лет назад это здание сгорело. Ведь в девяностые годы некому стало охранять его – государство развалилось, дом стал бесхозным, его оккупировали бомжи. До сих пор руины дачи Бенуа одиноко и печально напоминают об этой культурной жемчужине нашего города своим чёрным пятном. Дренажная система, просуществовавшая почти 100 лет, со временем была разрушена, и ныне вокруг этого места уже много лет снова всё заболочено. Сейчас идут разговоры о планах реконструкции дачи Бенуа, но когда сие свершится – никому не ведомо.
Год 1980-й, декабрь
Знай и люби свой город Уже тогда, в самом начале 1980-х, Володя был великолепным знатоком Ленинграда-Петербурга – сказались частые прогулки в детстве с отцом по городу и пригородам. Ему известно было о нашем городе много такого, что больше почти никто не знал. И он делился этими знаниями с видимым наслаждением. Однажды мы шли на концерт в Консерваторию по набережной канала Грибоедова. Когда проходили мимо Малой Подъяческой, Володя вдруг остановился перед старой обшарпанной дверью: – Зайдём-ка, что ли. – Зачем? – удивился я. – Увидишь! – заинтриговал он. Мы оказалось в обычном подъезде типичного петербургского дома с его большими коммунальными квартирами. С загадочным видом мой друг поднялся на 4-й этаж и открыл большую дверь, обитую дермантином. Запахло яичницей на шкварках. Людей не было. Мы прошли по длинному коридору мимо огромной общей кухни, а когда спустились по чёрному ходу и вышли на улицу – я вдруг обнаружил перед собой здание Консерватории. – А так пришлось бы нам далеко идти в обход! – с гордостью заявил Володя. Потом оказалось, что он очень любил этот «потайной ход», когда-то им разведанный, и иногда проводил через него друзей и знакомых. Когда возвращались в тот вечер по Фонтанке, Володя рассказывал: – Это сейчас Фонтанка такая широкая и с распрямленными берегами. А первое её название было Безымянный Ерик. Была она маленькой и изогнутой. В давние времена её ещё называли Голодушей. И уж затем – Фонтанной рекой. – Ну, это известный факт: из-за фонтанов в Летнем саду! Да, теперь она мощно выглядит со своими набережными. Только те вон трубы портят вид и экологию, – я указал на хорошо видные отовсюду четыре огромные трубы, вздымающиеся над водой. – Вот интересно: все возмущаются, что трубы вредные и всё время дымят – возразил Володя, – а того не знают, что в них стоят очень мощные фильтры. Без этого нельзя! Это трубы электростанции Бельгийского общества, она ещё в прошлом веке построена и до сих пор работает. Причём на мазуте! – Наверно, поэтому и дым белый, хотя мазут чёрный. – А погляди-ка: тебе ничего эти трубы не напоминают? – спросил вдруг Володя. – Не-ет... – я тщился включить фантазию – В народе эти трубы прозвали "спящим слоном". Видишь – будто четыре ноги торчат? – Верно! И ещё одна забавная деталь: во время наших прогулок по городу Володя всегда знал, где находится ближайший общественный туалет, в каком бы районе мы ни находились. Он в шутку говорил по этому поводу: «Знай и люби свой город!» Володя прекрасно ориентировался в запутанном клубке улиц Петроградской стороны. Однажды он, по его словам, нарочно «заблудил» там одну студентку, уверявшую, что её в нашем городе невозможно сбить с толку. Он походил с ней замысловатыми зигзагами по Зверинской, Съезжинской и Сытнинской улицам, а потом вдруг спросил: – В какой стороне телебашня? – Там! – уверенно показала она. – А теперь обернись! – велел он. И понятное дело, башня оказалась сзади, то есть в противоположной стороне. Не знаю, шутка ли. Во время одной из наших прогулок с Володей по Васильевскому острову он рассказал, что в своё время линии на нём собирались переименовать в улицы по номерам съездов Коммунистической партии – тогда КПСС, а до этого ВКП(б): «Улица 12-го съезда», «25-го съезда» и т.д. Но когда это дело обсуждалось в чиновничьих кругах, кто-то вдруг спросил: «А что будем делать с Косой линией?» Все смутились, замолкли и… оставили как есть.
Год 1981-й, 1-я половина
Пианисты и лыжная вылазка В тот год интенсивность нашего с Володей общения была гораздо меньше: я учился уже в другом училище, да и всяческие мои семейные дела и путешествия не позволяли нам часто видеться. Изредка встречались мы на концертах и прямо в городе. На его светлое пальто в крупную клетку и забавную, но удобную шапку с ушами-бортиками я неожиданно, но регулярно натыкался на эскалаторе метро, на набережной Мойки или в Доме Книги. Бывало, сталкивались мы вечером на тротуаре Невского проспекта в послеконцертное время, возвращаясь с разных концертов. Я продолжал устремляться в основном на пианистов, обычно в свой любимый Малый зал Филармонии, но также и в Большой, и в Капеллу, и в Глазуновский зал Консерватории. Как правило, ходил я с сестрой Светой и (или) отцом – большим любителем музыки, несмотря на специальность радиоэлектронщика. Из родных ленинградских исполнителей тогда выступали у нас Александр Ихарев, Павел Егоров, Валерий Вишневский, Виталий Берзон, – и конечно же, не пропускалось ни одного концерта таких корифеев рояля, как Элисо Вирсаладзе и Григорий Соколов (3 апреля Соколов потряс нас во время концерта в МЗФ запредельно медленными темпами в 17-й сонате Бетховена; когда я рассказал об этом Володе, он только усмехнулся: «Молодость, экспериментаторство… а может, до самолёта ещё много времени оставалось!») Из зарубежных пианистов помню в ту зиму и весну 1981 года таких гастролёров, как норвежец Гарольд Братли, вьетнамец Данг Тхай Шон, полячка Галина Черны-Стефаньска, француз Паскаль Девуайон и западный немец Роланд Келлер. Но поскольку Володю интересовали совсем другие инструменты, другие жанры и вообще другая музыка, точек пересечения на то время у нас стало гораздо меньше. В последующие годы благодаря Володе их количество этих точек будет неуклонно повышаться. Он умел увлечь и заразить! И тем ценнее было для меня то, что однажды в конце марта он пригласил меня в совместную лыжную поездку «на троих» в компании с Мишей Журавлёвым. Мы поехали с Финляндского вокзала электричкой в Репино, где была у Миши дача, а оттуда прошли на лыжах по берегу залива. Тогда лыжные вылазки были повальным увлечением народа. В снежные месяцы вокзалы, станции и платформы топорщились лыжами, как ежи! На даче у Миши посидели совсем чуть-чуть – отогрелись возле печки, выпили по чашке чаю и сразу пошли по колее вдоль побережья Финского залива. Несмотря на оттепель, снега было ещё очень много, и мы старательно двигали ногами по прибрежной полосе – как раз по тем местам, где в июне вместе с художником Пашей Мартовым совершали марш-бросок и прыгали с крана. Всё кругом знакомо и незнакомо! Во всё время похода между Мишей и Володей велись умные разговоры обо всём, а я только прислушивался. Помню, например, как Володя спросил его: – Поведай-ка мне, Миш, кто такой Ванька-Каин? И Миша тут же, как по писаному, выдал обстоятельную информацию об этом знаменитом разбойнике первой половины 18 века, подмявшем под себя всю московскую полицию (в этой поучительной истории можно углядеть знакомые параллели с нашими временами). Чтобы как-то втянуть и меня в беседу, Володя спросил, как идёт у меня учёба. – Да, интересно, что по фортепиано тебе дали? – поддержал Миша его вопрос (зная, что это главный для меня предмет), и я ответил: – Какую-то совсем непривычную музыку: прелюдии Кабалевского из его цикла «24 прелюдии». Володя сделался мрачнее тучи, и тут же не преминул высказать своё мнение о Дмитрии Борисовиче: – Самый большой мракобес в современной музыке, да простится мне! – Может быть, но мне сами-то эти пьесы нравятся! – попытался я сгладить его резкость. Не помню, выбирались ли мы в ту весну 1981-го с Володей ещё куда-то в поездки – вполне вероятно, что они были. 15 марта 1981-го. Лыжный поход "на троих" – Володя и те же два Миши. Вновь мы на берегу Финского залива. Движемся по тому же маршруту, что и летом: Репино – Комарово – Сестрорецк.
Год 1981-й, 2-я половина
Новый слёт и Филармония Июль стал весьма насыщенным для меня – юннатский лагерь под Москвой по приглашению деда-зоолога, затем семейное путешествие с палаткой по Крыму: пещерные города Чуфут-кале, Эски-Кермен, и Мангуп-кале, Большой каньон и Ай-Петри… Впечатления, конечно, яркие! Жаль, что в Крыму мы были пока не вместе с Володей, но это случится через четыре года. А осенью новый концертный сезон начался для нас с оперы «Сказка о царе Салтане» в театре Оперы и балета 20 сентября, куда мы ходили вместе. Да ещё виделись мы изредка на общих наших студенческих встречах – например, дома у однокурсницы Ани Вороновой 6 ноября 1981-го. Это был точно такой же сбор, как у Миши Журавлева ровно за год до этого, день в день. Так же веселились и дурачились – ну, может быть, чуть более пристойно, всё-таки стали старше на год. Но анекдотами по-прежнему сыпали – правда, уже не политическими. Володя, помню, изображал пародию на рекламу: – Пришел Мокий на базар за огурцом. Продавец Фокий ему и говорит: «Подорожали!» А у Мокия теперь, выходит, и на один огурец не хватает. А надо ему позарез! Тогда Мокий говорит: «Отрежь мне половину огурца!» Фокий ни в какую! Спорили-спорили, до рукоприкладства дошло. Мокий в Фокия плюнул, а Фокий Мокию вдул по тыкве. Тогда Мокий схватил огурец и так треснул им Фокия, что тот упал замертво. Вот такие в нашем селе Дрищево огурцы! Покупайте только у нас! Сейчас-то это выглядит наивно, а в те времена для нас само слово «реклама» это было чем-то из той, закордонной жизни. Позднее появится у Володи и необходимый для таких рассказов артистизм, и тогда его анекдоты станут действовать ещё сильнее.
26 ноября в Большом зале Филармонии выступал пианист Кристиан Цимерман. Это было событием! Я редко рассказывал Володе о «своих» пианистах (зная его, как мне казалось, индифферентность к ним), но тут не удержался и поделился восторгом. Этот поляк потряс слушателей полным слиянием с Шопеном, он даже внешне был очень похож. Нас всех (а был я на этом концерте со своими приятелями-пианистами и учителем С.В.Морено) охватило мистическое ощущение, что за роялем сидит сам автор, и что именно так и только так предполагал он исполнять свою музыку! Володя вполне меня понял и на этот раз не подшучивал. Зато через две недели мы вместе сходили на скрипачку Маринэ Яшвили. В то время она уже преподавала в Московской консерватории и была известным исполнителем. Нас пригласил, кажется, кто-то из володиных друзей. Исполнялись три скрипичные сонаты Брамса и его «Венгерские танцы» (плюс ещё пара бисовок). После концерта Володя отозвался об игре Яшвили очень высоко. И главной его похвалой было: – Каждый звук на своём месте!
Год 1982-й, зима-весна
Концертная жизнь и клавесин С этого года Володя начал регулярно появляться у меня дома – сначала в компании Светы с Жанной, а потом и моего новоявленного друга Сергея. Начало того года было плодотворным в смысле концертов. В воскресенье 10 января, в день рождения моего отца, его друг пианист Анатолий Угорский – с того года он как раз начал преподавать в Консерватории – пригласил нашу семью на своё выступление в Филармонию. Не помню, был ли там и Володя, ведь Угорский играл в тот день Бетховена и Мусоргского (правда, необычно по ритму, у него была своя теория ритмической организации), а не продвигаемых им Мессиана, Булеза и володиного любимца Шёнберга, которыми больше практически никто у нас не занимался, но которых Угорскому просто не дали бы тогда исполнить на такой академической площадке. Володя Радченков продолжил эту линию интереса к Шёнбергу, начатую в нашей стране И.И.Соллертинским. 25 февраля я зашёл навестить Володю в Консерваторию, где он учился, а Володя взял да и затащил меня на концерт консерваторского камерного оркестра, исполнявшего три «Кончерто гроссо» Генделя. Так он приучал меня к музыке эпохи барокко, которая потом станет его главной стихией. Да ещё в том же феврале сходили мы на оркестр старинной и современной музыки Эдуарда Серова, он исполнял три симфонии Моцарта – 37-ю, 38-ю и знаменитую 39-ю. Из пианистов те зима и весна были щедрыми на блистательных москвичей: Николай Петров, Наум Штаркман, Рудольф Керер, Евгений Могилевский, Николай Демиденко, Владимир Крайнев – это уже из другой моей концертно-слушательской жизни, параллельной нашей с Володей. Зато однажды в марте эти параллели пересеклись: я не мог пропустить очередного приезда к нам Вирсаладзе, а Володя не мог прийти мимо исполнения Хиндемита, сонату для валторны и фортепиано которого Элисо Константиновна в числе других произведений исполняла в тот вечер с Виталием Буяновским. В том же марте мы слушали эстонский мужской хор, которым руководил маститый Густав Эрнесакс. В числе прочего хор исполнил много песен любимого Володей Шуберта. А в апреле мы с Володей посетили вместе целых три концерта. Первый из них, 1 апреля, был целиком посвящён Оливье Мессиану. Полагаю, тут не обошлось без Анатолия Зальмановича Угорского – он, конечно, тоже, присутствовал в зале. Произведения Мессиана исполнял французский ансамбль «Арс-Нова» (кое-что звучало впервые у нас в стране). Для меня открытием стало то, что композитор и органист Мессиан стал в 1950-е годы ещё и орнитологом. Много его произведений посвящено птицам. В то время, когда мы сидели на концерте, он вовсю ещё жил, здравствовал и был органистом церкви Святой Троицы в Париже. Через неделю мы пошли на «Хортус музикус» – первый (или один из первых) ансамбль в СССР, исполнявший средневековую музыку в аутентичной манере. Это всегда звучало ярко и необычно. К тому времени уже вышло несколько пластинок "Хортуса" на фирме Мелодия, которые мы все часто слушали дома. Потом и другие ансамбли старинной музыки, в которых будет участвовать Володя («Pro anima», «Барокко консорт») многое переймут у «Хортуса». Еще через неделю слушали скрипача Бориса Гутникова, исполнявшего произведения Баха и Бетховена. Тот апрель 1982 года стал важной точкой отсчёта для Володи – именно тогда он всерьёз и на всю жизнь занялся клавесином! Выставка, что мы посетили с ним полтора года назад, не прошла даром. Он часто вспоминал её. А совсем недавно рассказал мне, с чего, собственно, всё и началось. – Однажды весной приехала к нам в Консерваторию передвижная выставка старинных инструментов из Италии и Франции. Стали выгружать их из автобуса, а я как раз приехал на учёбу. Ни разу не видел я столько клавесинов, стоящих прямо на улице! И вот смотрел-смотрел я, а потом схватил один маленький клавесин за ножки и тоже понёс в здание. Меня увидел пожилой итальянец и сказал по-русски с акцентом: «Кто же так берёт? Надо брать нежно, бережно!» В том же году я и начал заниматься клавесином у профессора Розанова.
Год 1982-й, лето-осень
Новые учителя Летом Володя ездил в фольклорную экспедицию вместе с учащимися Елены Николаевны Разумовской, блестящего исследователя народного творчества, прекрасного человека и преподавателя. Это было незабываемо и ярко! Разговоров об этой поездке хватило на много лет вперёд. До сих пор жалею, что постеснялся поехать тогда с ними, хотя и очень хотел (да и они всегда жалели!) – ведь я уже был тогда студентом другого училища, а потому считал себя не вправе навязываться. Возможно, в чём-то эта экспедиция повлияла бы на мою жизнь. Жанна Краснова, например, после этого связала с фольклором всю свою дальнейшую судьбу и работу. Но в той поездке ей не повезло – она ошпарила ногу у костра, пришлось вернуться домой. А я в то лето почему-то даже не поехал в Крым – валялся в депрессии, а в перерывах учил ХТК Баха (просто так, вне учёбы). Володя продолжал учиться в Консерватории. С той осени у него появились новые учителя: Иван Васильевич Розанов и Борис Иванович Тищенко. По поводу И.В.Розанова Володя рассказывал: – В Консерватории в Глазуновском зале стоял клавесин. Я всё время забегал поиграть на нем – интересно было, как звучат старинные пьесы «в оригинале». А профессор Розанов частенько меня заставал за этим занятием. И однажды сказал: «Вижу ведь, что вы не просто так здесь сидите всё время. Интерес-то у вас серьёзный! Между прочим, я веду кафедру клавесина. Хотите ко мне ходить?» Вот так я и стал заниматься у него клавесином. А по композиции, помимо В.И.Цытовича, Володя стал учиться и у другого профессора – Бориса Ивановича Тищенко, ученика Д.Д.Шостаковича, у которого Тищенко перенял лучшие традиции симфонизма, идущие от Гайдна, Бетховена и Чайковского. Шостакович, как известно, считал, что полифоническое мышление – главное для любого музыканта (пианиста, дирижёра, композитора и т.д.), всё остальное – производное от этого. И в музыке Володи полифонизм проступает очень объёмно именно благодаря его занятиям у Нины Оксентян и Бориса Тищенко. С тех пор и по сей день Володя питает к Борису Ивановичу глубочайший пиетет, хотя на первых порах его и задевала иногда критика Мастера. Он вспоминал потом: – Бывало, скажет мне Борис Иванович что-нибудь колкое по поводу моего сочинения, я выхожу из его класса и стою у стенки, расстроенный. В.И.Цытович видит это, подходит ко мне и успокаивает: «Да не переживайте Вы так, всё уладится!» Тогда же произошла встреча Володи с Олегом Григорьевичем Янченко, белорусско-московским композитором и органистом, который в значительной мере подогрел володин интерес к старинной музыке. В ноябре я впервые пригласил своих друзей – Володю, Свету и Жанну – к себе в гости. Почему-то побоялся сказать, что на день рождения, и мотивировал это приглашение тем, что в прошлом году, мол, собирались на День революции у Ани Вороновой, в позапрошлом у Мишки Журавлева, – а я что, хуже, что ли? – давайте-ка в этом году соберёмся у меня, хоть и не так многочисленно. Но когда за столом мои родные начали меня поздравлять – Володя и девушки почувствовали себя очень неловко. – За нами подарки! – решительно заявили все! И как я ни отговаривал их, всё равно при ближайшей встрече каждый их них подарил мне кто книгу, кто ноты, кто пластинку.
Год 1983-й, январь
Грампластинки Кстати, о пластинках. То было время, когда грампластинки являли собой важную составляющую нашей жизни. У каждого из нас в доме были десятки и сотни квадратных конвертов с ними. Мы жили среди них, купались в них, дарили друг другу, и это всегда было беспроигрышным вариантом. И хотя уже не одно десятилетие это были просто виниловые пластинки – приставка "грам" стала рудиментом и сохранилась со времён граммофонов, – все по привычке продолжали их так называть. Мою коллекцию начал собирать ещё мой отец Юрий Вячеславович Строков. В молодые годы, когда он учился в Политехническом институте и жил материально очень скромно (а тут ещё и мы пошли, дети), он не мог позволить себе часто разоряться на пластинки, но всё-таки успел приобрести их за 1960-1970-е годы около двух сотен. В основном западную и русскую классику. Тогда ещё пластинки были моно, а не стерео, а сохранилось пара десятков и на 78 оборотов (вместо привычных 33). В 1980-е я активно продолжал наше собрание и в итоге в несколько раз увеличил количество дисков. Магазинов было достаточно, но два главных – на первом этаже здания Дома книги (так называемый "Музфонд") и в Гостином Дворе. Ну, и ещё «Рапсодия» на Большой Конюшенной, тогда улице Желябова. В общем, пластинки – отдельный пласт жизни для многих из нас, прошу прощения за тавтологию. То была эпоха винила. Есть и сегодня его любители. Их, как ни странно, очень много! Но сейчас не об этом. Володя и девушки часто приходили ко мне слушать музыку. Конечно, в основном это была классика. Иногда слушали мы и новинки музыкального мира, то есть произведения наших современников, живших и творивших среди нас (из тех, кому посчастливилось записаться на фирме «Мелодия») – Ю.Фалика, Г.Банщикова, Ю.Корнакова, А.Мнацаканяна, И.Рогалёва. Я уговорил родителей разориться на проигрыватель «Вега-110», взамен бывшей «Веги-101», то есть на «вертушку» куда лучшего качества. А усилитель и колонки для него мой отец-золотые-руки сделал сам. Каждая колонка состояла из четырёх динамиков в самодельной «коробке» из досок, покрытых лаком. Потому и собирались мои друзья большей частью у меня, как у счастливого обладателя хорошей техники с качественным звуком. Любили они разглядывать и особый стенд из пластинок на стене, который я придумал и создал тогда же. Пустая часть стены над «Вегой» была заполнена пластиночными конвертами, расположенными рядами. Снизу для каждого конверта была вбита пара гвоздиков, на которые он просто ставился, а придерживала ряд невидимая леска, натянутая горизонтально вдоль стены. И таких рядов по шесть пластинок в каждом было всего пять, то есть вся экспозиция состояла из тридцати конвертов. Лёжа на кресле-кровати, я всегда видел её перед собой, это возвышало и устремляло. «Изобразительный ряд» я часто менял. Главным образом по темам: определённый автор, эстрада, старинная музыка, джаз, литературные записи, - а иногда даже просто по цветовой гамме. Володя каждый раз с интересом разглядывал эту выставку, которую я, бывало, специально менял к его приходу. Сам не знаю зачем (вероятно, свойственная молодости тяга ко всему новому), в тот месяц купил я пластинку с фортепианным Концертом Бориса Чайковского – современного композитора, о котором тогда ничего не знал, – причём в исполнении самого автора. Принеся домой, прослушал всю запись не один раз (Концерт занимал весь диск целиком, обе его стороны). Очень понравилась мне первая токкатная часть, вторая просветлённо-философская и драматически-возвышенный финал, то есть пятая часть. В общем, не пожалел, что приобрёл. Но как-то не обратил особого внимания на то, что круглая бумажная наклейка с надписями посреди винилового диска оказалась чёрного цвета. Немножко странно это выглядело, только и всего. Раньше мне чёрные кружочки не попадались, обычно они были белые или жёлтые, иногда розовые, красные или синие (на импортных дисках). А вот Володя, придя ко мне очередной раз в гости и случайно увидев этот диск среди других пластинок, явно заинтересовался и стал его рассматривать. – Повезло тебе! – сказал он. – Почему это? – Чёрный лейбл означает, что это мастер-диск! С него делаются остальные копии, которые с жёлтыми наклейками, а с тех печатаются уже в свою очередь пластинки с белыми кружками. То есть у чёрных звук самый качественный! Они у нас идут в основном на экспорт. – Ага, вот почему мне эта музыка так понравилась! А что все эти буковки и цифирки означают на кружочках? – решил я и дальше «дожимать» Володю, видя, как вертит он в руках диск. – Вот, например, в середине написано: «С10 — 06427 ГОСТ 5289-73 2 гр. 1-20». Что это за абракадабра? Спокойно и с явным знанием дела Володя принялся объяснять: – «С» означает стерео, единица дальше – к какому жанру относится запись. Их там с десяток всего, и цифра «1» указывает на то, что это классическая музыка. А нолик – что это диск большого размера («гигант» так называемый). Потом идёт номер в каталоге из нескольких цифр, «ГОСТ 5289-73» – это государственный стандарт, принятый для винила в 1973 году. А вот «2 гр.» – сие значит вторая репертуарная группа, то бишь «сурьёзные» записи. Их всего-то три группы, 3 – это эстрада, лёгкая музыка, а 1 – всякая политика и идеология. Это ж главное, потому и на первом месте! Потом написано «1-20» – это стоимость самого диска без конверта. Конверт сам по себе стоит 25 копеек, вот в итоге и получается стандартная цена пластинок – рубль сорок пять. – И такая цена по всей стране? – Да, какой бы завод ни выпускал. У нас их много – Апрелевский, Московский, Ленинградский. В Прибалтике есть Таллиннский и Рижский, а на востоке Бакинский, Тбилисский и Ташкентский, – говорил Володя, возвращая мне пластинку. – Ну, а сама-то музыка на пластинке… тебе как? – Музыка первосортная! Борис Чайковский автор сильный и серьёзный, и ты разумно поступил, что взял для знакомства этот его Концерт! Он доступнее всего. – Да, мне фортепианная музыка ближе и понятнее. Кстати, а есть ли у Чайковского ещё и другие концерты? – Из фортепианных этот у Бориса Александровича пока единственный, – сразу ответил Володя. – Хотя, может, он и ещё напишет. Зато есть у него кларнетовый, виолончельный и скрипичный концерты, тебе тоже их стоит послушать. А потом, глядишь – доберёшься до симфоний его и других его вещей. Наконец-то ты погружаешься в пучину современной музыки!
Год 1983-й, февраль
«Музыкальное приношение» В конце зимы 1983-го Володя познакомил меня с «Музыкальным приношением» Иоганна Себастьяна Баха, за что я ему всегда буду благодарен. Тогда как раз вышла грампластинка с этим произведением в исполнении Камерного оркестра Люцернского фестиваля (запись 1976 года была сделана в Мюнхене, как указано на конверте). Володя посоветовал мне съездить за ней поскорей в «Гостинку», пока она там есть, что я и сделал. В свободные часы я часто включал проигрыватель и заслушивался этой гениальной музыкой, одним из последних сочинений величайшего полифониста. «Приношение» было написано Бахом для прусского короля Фридриха II. Это большой цикл фуг, ричеркаров, канонов и других полифонических вещей. И все эти произведения основаны на одной теме, сочинённой самим королём и данной Баху во время их встречи в Потсдамском дворце. Сейчас эта музыка стала у нас в стране достаточно известной, её часто можно услышать даже в музыкальных школах. Особенно любят исполнять четырёхчастную Трио-сонату. А тогда, в начале 80-х, мы только узнали о ней. – Эх, ноты бы ещё иметь! – сказал я как-то Володе. – Ну, это у нас большая редкость. Что ж, попробую достать! И он действительно, поддерживая мой интерес, всё-таки раздобыл для меня где-то ноты на время, всего на неделю, в старинном немецком издании. Как коршун, я набросился на этот сборник и переписал оттуда вручную за эту неделю всё, что успел – такая была жажда! Прежде всего меня привлёк шестиголосный ричеркар. Получилось больше десяти страниц рукописного текста. Это была огромная работа, особенно если учесть, во-первых, транспонирование половины партий из альтового, тенорового и сопранового ключей в привычные скрипичный и басовый, а во-вторых, перевод из шестистрочной партитуры в двухстрочный фортепианный вид. Каждый голос пришлось выделить своим цветом, иначе легко было бы запутаться в хитросплетениях тем. Из спортивного интереса я даже выучил этот ричеркар – любопытно стало попробовать исполнить всего десятью пальцами целых шесть голосов! Жаль, те рукописные ноты не сохранились, затерялись потом где-то в училище. – И что интересно, – сказал мне тогда Володя, – принято считать, что королевская тема была той, на которой основано большинство произведений из «Приношения». То есть вот это начало длинными половинными нотами. И только в 4-м каноне она видоизменена: более динамична и идёт почти вся восьмыми длительностями, а в конце даже 16-ми. Так вот, изначально тема, данная Баху королём, была именно такой, как в этом каноне. Но для фуги она не годится! Бах так прямо и заявил королю. Поэтому для фуг и ричеркаров (трёх- и шестиголосного) он её изменил. Откуда Володя это узнал – неизвестно, но я ему верю. Когда я показал Володе плоды своей работы, он вспомнил: – Этот твой любимый Ричеркар ещё лет пятьдесят назад Антон Веберн разложил для оркестра. Очень оригинальная у него оркестровка! А совсем недавно скрипичный концерт на эту тему сочинила София Губайдулина – та самая, что написала музыку к нашему знаменитому мультику «Маугли». Позднее Володя познакомил меня с ещё более старинной музыкой композиторов эпохи раннего барокко: Фрескобальди, Монтеверди, Шютца. С Канцоной Фрескобальди я даже потом сдавал госэкзамен по фортепиано. 1-2) Грампластинка с «Музыкальным приношением» И.С.Баха; 3-5) Ноты начала Ричеркара (плюс рукопись) и Трио-сонаты; 6) Канон № 4 с оригинальной темой.
Год 1983-й, март
Д.Толстой, Н.Богословский и М.Шостакович В тот месяц меня от военкомата положили в больницу имени Мечникова, чтобы сделать биопсию почки. Всё решилось в один день по звонку прапорщика, хотя остальные люди ждали своей очереди месяцами. Военному начальству нужно было удостовериться, есть у меня хроническая болезнь или нет. Меня навещали, кроме Светы-сестры, ещё две Светы-однокурсницы: Ветлова и Майорова. Обилие Свет служило поводом постоянных шуток моих однопалатников. Но Володя, кажется, ничего не узнал об этой моей «покладке», не так уж часто мы тогда встречались, а сообщать ему я не хотел. Правда, буквально за день до этого мы с ним посещали Дом Учёных в Лесном при Политехническом институте, побывав на авторском вечере композитора Дмитрия Толстого, сына писателя Алексея Николаевича Толстого. Музыкант исполнял тогда свои фортепианные сочинения: «Большие вариации» на тему Шумана, Девятую и Тринадцатую сонаты, а также цикл «Двадцать четыре прелюдии» памяти В.Софроницкого. Мы с Володей сели было рядом в первом ряду, но автор попросил меня выйти на сцену и переворачивать ему ноты, так что я тогда «вплотную» познакомился с его творчеством. Позднее Володя будет иногда выступать в этом замечательном, красивом месте с ансамблем «Барокко консорт». На эти концерты я всегда приходил, ибо жил неподалеку. По дороге обратно я рассказал Володе, что за неделю до этого, то есть 18 марта, в этом же зале Дома Учёных я присутствовал на встрече с другим композитором – Никитой Богословским. Это была инициатива моего отца, который любил его песни. – Тебя туда не позвал, – сказал я Володе, – зная твоё к нему отношение. Действительно, Володя терпеть не мог этого человека. Однажды он рассказал чёрную шутку, придуманную его коллегами:
В самом деле, с одной стороны Богословский проявил себя как талантливый композитор, и песня «Тёмная ночь» – его визитная карточка, а с другой прославился своими розыгрышами, часто небезобидными, а иногда и просто довольно злыми, – причём жертвами этих розыгрышей становились все подряд, даже ближайшие его друзья. В тот авторский вечер, на котором мне довелось побывать, Богословский исполнял свои песни и музыкальные пародии, шутил с залом и читал свои юмористические произведения, с которыми я отчасти был давно знаком, поскольку имел дома его брошюрку из серии «Библиотека крокодила» (кстати, эту чёрную шутку насчёт «выздоровел» он прочёл среди других уже как свою собственную). Но все эти разговоры с публикой и сами литературные творения, как и брошюрка, были окрашены каким-то пошловатым оттенком и сдобрены цинизмом и скабрезностями. Понятное дело, что мне, тогда непорочному 18-летнему мальчику, сие не могло понравиться. А после толстовского вечера, когда мы шли с Володей через парк Политехнического института, я показал ему газету со статьёй о Максиме Шостаковиче. Это была разгромная статейка о том, как он, сын гениального композитора, не вернулся из загранпоездки, сделавшись «невозвращенцем», и таким образом опорочил светлое имя отца и наши советские идеалы:
– Такое ощущение, что автор ему просто завидует. А между прочим, Максим сейчас в Америке готовится издать все музыкальные сочинения отца, полное собрание. Здесь бы ему этого не дали! Да ещё собирается выпустить в свет записи всех его симфоний с хорошим оркестром. Это не предательство памяти, а наоборот!
1) Дом Учёных в Лесном; 2) Дмитрий Алексеевич Толстой; 3) Никита Владимирович Богословский (фото с того самого вечера); 4) Максим Дмитриевич Шостакович.
Год 1983-й, апрель
Общение продолжается Володя по-прежнему оставался единственным, кто спокойно и подолгу мог общаться со мной на любые темы. С целью этого общения мы встречались где-нибудь в городе, а чаще на Финляндском вокзале (почему-то именно на нём), заранее договорившись по телефону, с целью поехать куда-нибудь за город. Я имел привычку опаздывать, и Володе частенько приходилось поджидать меня по полчаса и более (ведь мобильников тогда не было). Стыдно теперь за это – заставлял себя ждать такого человека! Прости меня, Володя… Дошло до того, что мы просто встречались, а потом уж думали: куда бы нам сегодня махнуть? В Приозерск или в Выборг? И придумывали на ходу маршрут (само собой, придумывал в основном он, исходя из ближайшей электрички, а я ещё не знал так хорошо ни города, ни пригородов в области). А потом ехали в вагоне или в салоне автобуса и беседовали обо всём на свете. Беседы наши продолжались и во время гуляния, и в кафешках, куда мы заходили на перекус. До сих пор не могу понять до конца, что он находил тогда во мне – зажатом и забитом 18-летнем пареньке, не блещущем интеллектом и цепляющемся за свои узкие пристрастия в искусстве, за островки своих убогих знаний и пониманий. Эти поездки с детства привил ему отец Михаил Егорович. Позднее Инесса Забежинская рассказывала: «Папа воспитывал Володю в любви к родным местам. Они садились в любой рейсовый автобус и ехали до кольца, затем гуляли в окрестностях. Приезжая домой, читали о тех местах, где гуляли. Или наоборот: папа сначала читал, потом они ехали, гуляли, и папа рассказывал. Володя любил и, казалось, досконально знал Ленинград и все его исторические пригороды». Оттого Володя и ко мне относился во время наших путешествий по-отечески, я это чувствовал. Тогда я увлекался философией (или думал, что увлекаюсь) и читал все подряд книги по теме этой «царицы наук». Скупал всего Гегеля, он тогда выходил у нас большими «кирпичами», поскольку при всём своём идеализме Георг Вильгельм Фридрих Гегель всё-таки очень неплохо стыковался с насаждаемым нам со школы диалектическим материализмом. Мне очень по душе было, что Володя тоже во многом склонялся к Гегелю. Но тяготел мой друг даже не к идеализму, а к дуализму (как однажды он мне признался), то есть к равенству материального и духовного. А я тяготел более всего к пантеизму Спинозы: «Бог, то есть природа». И ныне ловлю себя на том, что я совершенно не запоминал наши замысловатые пути, настолько был увлечён разговорами. Всё проплывало на фоне этих философских бесед, как в тумане: какие-то дороги, весенняя грязь на них, посёлки и городки, музеи и даже концертные залы в них. Жаль, что почти никогда я не захватывал с собой фотоаппарата (можно было бы отчасти восстановить по фото наши маршруты), а если и не забывал его дома, то снимки получались, как правило, такого жуткого качества, что трудно теперь разобрать что-либо на них. С Володей я мог искренне говорить обо всём подряд, даже делиться самым личным. Теперь-то понимаю, что иногда вовсе некстати изливал ему душу. И в этой связи вспоминаются слова Ф.М.Достоевского из «Петербургской летописи»: «…Если этот человек заведет себе друга, то друг у него тотчас же обращается в домашнюю мебель, во что-то вроде плевательницы. Всё, всё, какая ни есть внутри дрянь, как говорит Гоголь, всё летит с языка в дружеское сердце. Друг обязан всё слушать и всему сочувствовать. Обманут ли этот господин в жизни, обманут ли любовницей, проигрался ли в карты, немедленно, как медведь, ломится он, непрошеный, в дружескую душу и изливает в неё без удержу все свои пустяки, часто вовсе не замечая того, что у друга у самого лоб трещит от собственной заботы…» Но Володя с его деликатностью всегда (именно всегда!) выслушивал мои исповеди и давал советы – может быть, иногда «не совсем уклюжие», но искренние. В тот апрель мы тоже куда-то ездили, и не раз. Помню только Пушкин (Царское Село), да и то потому только, что Володя увлечённо говорил о недавно им прочитанной поэме «Гавриилиада» – коль уж мы приехали в место, связанное с великим поэтом. Другие пушкинские поэмы он, разумеется, прочёл в первую очередь и прекрасно знал, а тут открылось ему что-то новенькое! При своей феноменальной памяти Володя обильно сыпал цитатами оттуда. Доселе я и понятия не имел об этом произведении. Решил потом почитать и даже записал в блокнотик название. Ну вот... смешное воспоминание накатило: тогда я не знал об одиозности этого творения, считая поэму почитаемой наравне с другими, и на следующий день после той поездки пришёл в библиотеку на Фонтанке, «Маяковку», с целью прочесть его. И с юношеской непосредственностью брякнул перед стойкой выдачи книг: – Мне «Гавриилиаду»! Старушка-библиотекарша посмотрела на меня с каким-то брезгливым ужасом, да и очередь позади меня подозрительно притихла. А я смущённо оглядывался и не понимал: почему? Ведь Пушкин же, не Барков всё-таки! Что я такого сказал?
Год 1983-й, май
Иоанн Грозный, Моцарт и автобусы А в мае мы поехали уже чуть подальше Царского Села – в Павловский парк, как только его открыли после просушки. И здесь все уникальные красоты парка опять прошли мимо моего сознания. Зато хорошо помню, как в связи с беседой о царях, владевших этим местом и дворцом, Володя стал цитировать «Историю государства Российского» Алексея Константиновича Толстого. В то время я знал этого писателя и поэта лишь как автора стихотворения «Колокольчики мои» и тестов некоторых романсов Чайковского. Но теперь Володя с восхищением сыпал по памяти фрагментами из этого большого шуточного стихотворения, которое легко и юмором описывает вкратце всю историю России «от Гостомысла до наших дней». Нравились ему, например, строчки о «смуте»:
Откуда ни возьмись, Такой задал нам танец, Что умер царь Борис. И, на Бориса место Взобравшись, сей нахал От радости с невестой Ногами заболтал. Хоть был он парень бравый И даже не дурак, Но под его державой Стал бунтовать поляк. А то нам не по сердцу; И вот однажды в ночь Мы задали им перцу И всех прогнали прочь. Но особенный восторг вызывала у Володи характеристика Иоанна Грозного: Иван Васильич Грозный Ему был имярек За то, что был серьезный, Солидный человек. Приемами не сладок, Но разумом не хром; Такой завел порядок, Хоть покати шаром! Жить можно бы беспечно При этаком царе; Но ах! — ничто не вечно — И царь Иван умре! – Вот-вот, отлично сказано: «серьёзный, солидный человек»! – говорил он, пока мы ходили по гравиевым дорожкам между Павловским дворцом, Аполлоном и Пиль-башней. – А у нас принято изображать его жутким тираном, к тому же самодуром и психопатом. Затвердили все: жестокий, кровавый, не зря Грозным прозвали! А он всего лишь, в отличие от других правителей, давал полный отчёт в своих действиях, – увлекаясь, Володя становился весьма эмоциональным. – За пятьдесят лет его царствования было казнено всего-то четыре тысячи народа – куда меньше, чем при других царях! Причём законно казнено, без всякого произвола. «Приемами не сладок, но разумом не хром»! Он остановил татар, ввёл бесплатное образование в школах и монополию на пушнину. При нём на Русь переезжали каждый год тысячи семей, потому что жизнь стала здесь куда богаче, чем за кордоном! Недаром же сказано: «Жить можно бы беспечно при этаком царе»! (Через несколько лет, раздобыв текст «Истории государства Российского» Алексея К. Толстого, я тоже увлёкся ею, даже выучил весь этот многостраничный стих наизусть. И не зря: когда довелось поступать в институт Герцена и на экзамене по истории СССР отвечать письменно на вопрос в вытянутом билете, в качестве эпиграфа я процитировал несколько куплетов оттуда, подходящие к теме, чем привёл в восторг экзаменаторов. А ведь то был первый экзамен из четырёх на музыкальный факультет, и на нём сразу отсеялась половина абитуриентов! Может быть, среди них были талантливые музыканты?.. Вот так Володя, хоть и косвенно, помог мне поступить в ВУЗ). Продолжая тогда тему Грозного-царя, он сказал: – Конечно, картина Репина, хоть она и гениальная, подпортила навсегда его образ: никакого сына Грозный не убивал. – Разве? – не поверил я. – Нам в школе всё время об этом случае твердили: такой-сякой, мол, был Иоанн Васильевич, вот и палкой швырнул в сына! – Абсолютно точно не убивал, это установлено! Так же, как Сальери не убивал Моцарта. – То есть как это? И здесь не убивал?! – Конечно! Если внимательно почитать пушкинский текст, – принялся горячо доказывать Володя, – то можно заметить, что Пушкин сам этой своей вещью опровергает легенду об отравлении. Вот послушай: Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой; также Трудами и успехами друзей, Товарищей моих в искусстве дивном. – "Наслаждался успехами друзей", понимаешь? И вдруг так изменить себе? Как-то не вяжется. Между прочим, Сальери был в то время куда более успешным, чем Моцарт! И его исполняли намного чаще. – Неужели?! – Да, представь себе! А в конце они вспоминают Бомарше, и Сальери говорит: Он же гений, Как ты да я. А гений и злодейство — Две вещи несовместные. – То есть Пушкин этим намекает: мол, на самом-то деле вся моя стихотворная пьеса – выдумка, не было такого на деле! Понимаешь, Сан-Сергеич описывает не самого Антонио Сальери, а именно образ вымышленного человека, который мог бы так поступить. – Но ведь многие верят! – Бедному Антонио в данном случае просто не повезло, потому что именно этот пушкинский образ закрепился в сознании обывателя, как адекватный самому композитору. А нормальные музыканты, надеюсь, всё понимают правильно! И Володя снова принялся сыпать фрагментами из «Моцарта и Сальери». По тому, как он безошибочно цитировал и объяснял мне это и другие произведения Пушкина (в том числе прозаические), я убедился, насколько хорошо он их знает. С Володей было настолько интересно, что ничего из окружающего я не замечал; но в тот раз, когда мы вышли из парка на улицу, он вдруг оборонил: – На таком точно автобусе мой отец работает! Шофёром. – Ух ты! – удивился я. – Значит, он не музыкант? Я-то был уверен, что Владимир Радченков вышел из самой что ни на есть творческой семьи. А тут вдруг – отец простой работяга! Кстати, Михаил Егорович и по сей день продолжает трудиться водителем автобуса! Володя говорит об этом с гордостью. Потом оказалось, что и мама его Ксения Николаевна работает простой медсестрой в больнице. Он принялся любовно рассуждать об «Икарусах» и автобусах-«луноходах», о ЛАЗах и ЛиАЗах. Видно было, что он до тонкостей разбирается в их различиях! В тот же день я увидел и его неприязнь к электротранспорту – трамваям и троллейбусам. Возвращаясь из той поездки, мы сели в Купчино на троллейбус. Видно было, что стоять в давке, держась за поручень Володе было не очень комфортно, его раздражало дёрганье взад-вперёд. – Мёртвый транспорт! – констатировал он. – Видишь, он даже с места трогается резко. А вот у автобуса, – тут его лицо потеплело и даже стало выражать благодушие, – есть дыхание, как у человека: он начинает ход плавно, а не мертвенно-рывком, как троллейбус. Позже я изредка вновь слышал от него эту фразу: «Автобус дышит!»
Год 1983-й, июнь
Брукнер и Малер Наша учёба шла своим чередом: я заканчивал третий курс училища (после чего на месяц уезжал в пионерлагерь на практику), а Володя – третий курс Консерватории. Экзамен по истории зарубежной музыки принимала у него Людмила Григорьевна Ковнацкая, известный уже тогда музыковед, специалист по английской музыке ХХ века. Но в тот раз, выслушав его ответ, она сказала странные слова: – Вы с музыкой на «ты»! Так нельзя. Надо с ней на «вы»! Эту историю я впервые услышал от Жанны Красновой, а позднее его прокомментировала однокурсница Володи – Инесса Забежинская: – Володя тогда отвечал 7-ю симфонию Брукнера. Ковнацкая была поражена, с какой глубиной он чисто по-композиторски анализирует ее. Но это её “Вы с музыкой на «ты»”!.. Это же достоинство! «Ты» – это не обязательно бандит с жертвой или базарная баба с кондуктором, это и любящие, влюбленные... Произведения Антона Брукнера и Густава Малера, таких разных композиторов (хотя оба развивали венский симфонизм), впервые вытащил на свет в нашей стране всё тот же Иван Иванович Соллертинский. В 1930-е годы он активно пропагандировал их произведения, тогда мало кому известные – и в своих статьях, и выступая как лектор в Большом зале Филармонии. Об этом я узнал из книги воспоминаний о нём, которая стояла на полке почти у каждого музыканта. После прочтения книги, я из интереса приобрёл пластинки с симфониями Брукнера и Малера – из тех немногих, что выходили у нас. Мы с Володей иногда слушали их, иногда даже с партитурой в руках. Володя более тяготел к Брукнеру – как к продолжателю венского классицизма, то есть его любимого Гайдна, как к объективному началу в музыке. А я, напротив, переболел «малерией» (так с сарказмом говорили в своё время о Соллертинском): часами просиживал над партитурами его симфоний и пытался делать какие-то их переложения для фортепиано. В Малере меня привлекал экспрессионизм – порывистость, эмоциональная обостренность. Может быть, это оттого, что самому её в жизни не хватало. В Брукнере же мне нравилась разве что его «чистая медь» в 5-й и других симфониях. Густав Малер сознательно ограничил себя в жанрах, он писал исключительно симфонии и песни. Редкие их исполнения мы старались не пропускать. Например, 7 января слушали песни Малера в исполнении Галины Писаренко, аккомпанировал которой сам Григорий Соколов. Обидно только было, что в книгах называли Малера «автором девяти симфоний», потому что моей любимой была 10-я – ну и что из того, что он не успел её закончить? – как раз в этой, единственной написанной части, первой из пяти задуманных, столько всего заключено… Слушались, конечно, в концертах и 3-я, и 5-я малеровские симфонии, хотя они и более «объективны». «Истинный всесторонний гений!» – сказал о Малере наш Чайковский. Помню, в том июне я с восторгом говорил однажды Володе, как мне импонирует высказывание Малера, перекликающееся с Достоевским: «Существует общеевропейский порок: повсюду говорят – меня это не касается… Но ведь так может утверждать не человек, а глиняная куча! Нет, меня всё касается, весь мир…». – Да, самая ужасная фраза: «Это ваши проблемы!» – согласился Володя. Позднее он разовьёт эту мысль в одном из писем, доказывая, что каждый человек должен жить единой с другими жизнью, и только в этом случае он сможет оставаться Человеком. 1) Книга 1978 года о И.И.Соллертинском; 2-7) Пластинки с музыкой А.Брукнера и Г.Малера, которые мы слушали.
Год 1983-й, июль-август
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Барокко и джаз
Год 1983-й, сентябрь
Анекдоты 11 сентября мы с Володей ходили на ещё одного органиста – Валерия Рубаху из Одессы. Он исполнял произведения Баха и «Картинки с выставки» Мусоргского в собственном переложении. Занятно звучали они на органе! На обратном пути из Большого зала филармонии, помню, мы вовсю травили анекдоты. Этим мы тогда частенько баловались. Без анекдотов вообще невозможно представить то время. Они рождались и жили в советском обществе как часть его менталитета, отражая нашу жизнь и заключая в себе весь спектр юмора, от мягкого и лёгкого до чёрного и трагического. Соответственно, постоянно присутствовали они и в нашем общении. Больше всего любили мы анекдоты не то, чтобы совсем уж политические, но – с идеологическим подтекстом. Рассказывали мы их друг другу по понятным соображениям почти исключительно на улице, когда рядом никого не было. Продавец газетного киоска говорит покупателю: – «Правды» нет, «Россию» продали, «Культура» давно отсутствует. Есть у нас только «Труд» за три копейки! Приходит человек в поликлинику и просит записать его к врачу «ухо-глаз». – Но такого врача не существует. Что вас беспокоит? – Понимаете, я постоянно слышу одно, а вижу совсем другое. – Жизнеспособна ли социалистическая система? – Конечно! Будь такой бардак при капитализме, он бы давно погиб! – А правда, что при коммунизме продукты можно будет заказывать на дом по телефону? – Правда! Только выдавать их будут по телевизору. Колонна медработников на первомайской демонстрации несет плакат: "Советский паралич – самый прогрессивный в мире!" Работяга ждет открытия винного магазина. Подкидывает и ловит «лобанчик» – юбилейный металлический рубль с профилем Ленина, приговаривая: "У меня не Мавзолей, не залежишься!" Табличка на дверях КГБ: "Без стука не входить". – Что общего между сапером и редактором газеты? – И тот, и другой ошибаются только раз в жизни. – Как возникает анекдот? Садятся и придумывают? – Нет! Сначала придумывают, а потом садятся. В колхоз приехал лектор читать лекцию о единстве партии и народа. Как заманить? Никто ведь по доброй воле на такую не пойдёт. Тогда подумали и написали объявление: «Лекция о любви с показом слайдов». Понятное дело, набился полный зал. Лектор говорит: – Итак, товарищи, какие бывают виды любви? Перечисляю. Первый: между мужчиной и женщиной – ну, про это вы и сами всё знаете! Второй: между двумя женщинами – это непристойно, так что не будем о ней. Третий: между мужчинами – вообще преследуется по закону! И наконец, последний вид любви – между народом и партией. Начинаем показ слайдов! Генералу КГБ докладывают о внедрении за границей нашего разведчика: – Операция прошла удачно, если не считать маленькой непонятной детали. – Доложите подробно. – Агента начали готовить год назад. По легенде, молодой человек получил наследство в Соединенных Штатах. Через швейцарский банк перевели туда 500 тысяч долларов. Агент несколько месяцев, как это принято, добивался разрешения на выезд. Чтобы не вызвать подозрений, как все стоял в очередях в ОВИР, собирал справки, был исключен из комсомола. В конце концов визу получил и, простояв месяц за авиабилетом, вчера вылетел в США. – А что за непонятная деталь? – Когда он поднимался по трапу, он обернулся и как-то странно помахал нам рукой. Брежнев с Карповым играли в шахматы. Брежнев, разумеется, чемпиону мира партию продул. Но как об этом напишешь в газете? Глава страны – и проиграл? Думали-думали наши писаки и выдали: «Товарищ Брежнев блестяще занял второе почётное место, а Карпов – увы, всего лишь предпоследнее». На завод приехала комиссия. Всё обошли, проверили, затем вызвали начальника цеха: – Ну что ж товарищ, порядок у вас образцовый, мы довольны! Правда, вон в той дальней каморке набросаны отходы производства – всякий хлам и ветошь. Это понятно, должно же быть на заводе подобное помещение. Но почему у вас именно там висит портрет Ленина?! Не нашли для него более почётного места? – А вы знаете, товарищи, это не Ленин! Это наш главный зоотехник. – То есть как это? – Да, представьте себе – настолько похож, что сами удивляемся! – Ну-ка позовите его сюда! Приходит зоотехник. Комиссия смотрит – действительно, вылитый Владимир Ильич! Говорят ему: – Вы хотя бы, товарищ, бороду сбрейте, что ли. А то нехорошо получается! А тот им бойко так отвечает: – Ну ладно – бог'оду, допустим, я сбг'ею. Но мысли, мысли!! Последний анекдот существует в массе вариантов (дворник Карл Маркс и т.д.), но я записал текст именно в том виде, в каком его весьма эмоционально представлял в лицах Володя. Причём не боялся иногда рассказать и за общим столом!
Год 1983-й, октябрь
О литературе В начале октября я случайно встретился с Володей в троллейбусе. В руках он держал три тома Диккенса из его многотомного собрания сочинений. – Что это? – удивился я. – Неужели читаешь? – Ага! – немного смущённо подтвердил он. – Это не мои, а Светы Ветловой. Везу отдавать! Оказалось, что Володя периодически брал у Светы, обладательницы 30-томного Полного собрания сочинений Чарльза Диккенса 1963 года издания, по два-три новых тома (похоже, это единственный раз, когда благодаря «оттепели» Диккенс издавался у нас в советское время полностью), а в следующий раз менял на новые. Так он перечёл за тот год все произведения писателя! Через две недели, 16 октября, мы встретились с ним на дне её рождения, где он вновь обменял взятые в тот раз пару томов, уже где-то из последних. По тому, с каким живым интересом разглядывал Володя большую библиотеку Светы с полными собраниями русских и зарубежных классиков, которую любовно скопил в своё время её дедушка, чувствовалась его громадная начитанность. Нас со Светой всегда поражала эта его жажда к всеобъемлемости в чтении. Он прекрасно знал произведения Тургенева, Гончарова, Толстого, великолепно разбирался и в зарубежной классике – Голсуорси, Сэлинджер, Гессе, Брэдбери, Хемингуэй. И что меня особенно восхищало – цитировал их всегда безошибочно! Из русских писателей любимым у него был Лесков, из зарубежных – Фитцджеральд. Почему-то мы вдвоём очень любили обсуждать «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Наверно, в нашей жизни часто возникали ситуации, сходные с теми, что в книге. Ясно помню, как Володя говорил: – Хоть автора два, но при чтении видно, какие фрагменты написаны одним, а какие другим. Петров – он более великодушный такой, широкий, а вот у Ильфа всё же какая-то «злинка» есть, поэтому сразу чувствуется в некоторых местах его рука. И ведь именно он придумал умертвить в конце Остапа Бендера, хоть Петров и не согласен был! А что касается Льва Толстого – тут Володя готов был и поспорить. В тот визит, по дороге обратно, он признался мне, что ему не по душе известное высказывание писателя: «Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю. Зачем же тебе обдумывать обдуманное? Бери готовое и иди дальше! В этом сила человечества». – Совершенно с этим не согласен! – горячился тогда Володя. – Вот так и получаются наслоения ошибок. Нужно до всего доходить самому, чтобы это стало частью тебя, а не кого-то чужого! – Ну, это слишком долгая волынка получится, – попробовал я тогда поспорить. – Если каждый раз обмозговывать с нуля… ведь ещё Гёте сказал: «Молодёжи приходится каждый раз начинать сначала». – Да нет же, не нужно лично тебе весь мыслительный путь проходить заново, самостоятельно! Ты можешь, конечно, взять чьи-то идеи, выводы, но не как догму, не напрокат, а пропустить их через себя. А там уж согласиться или нет! И если они совпадут с твоим мнением – тогда и двигайся вперёд! Это ускорит процесс. Но важно, чтобы он был твоим собственным! А где-то в конце месяца Володя признался мне полушёпотом: – Вчера был в одних гостях, и там на дальней полке в шкафу стоит Набоков! Мне посчастливилось всего полчаса подержать в руках эту книгу. Уединился в уголочке (всё равно уже было, что обо мне подумают) и полистал хотя бы. Сейчас-то трудно себе представить, но в те времена и речи не было об издании у нас этого писателя. И хотя само имя было многим знакомо, но оно обрастало легендами и небылицами. Лишь иногда русскоязычного Набокова удавалось кому-то привозить из-за границы, как было и в этом случае. Само собой, начитан я был куда менее Володи, но о Набокове знал, тайком ловя радио «Би-Би-Си» – в основном в те часы, когда запирался в ванной для печатания фотографий. Тогда-то я и прослушал романы «Другие берега» и «Защита Лужина» (целиком услышать их не удалось, потому что передачи эти часто глушились нашими «доблестными органами»). – Меня в Набокове более всего потрясла его полифоничность стиля, – говорил тогда Володя, – Очень многое спрятано позади текста и не сразу улавливается. Понимаешь, что нужно его вещи заново читать и перечитывать. Такая вот у него эссенция из слов, которую приходится расшифровывать с мозговыми усилиями!
Год 1983-й, ноябрь
Под знаком Баха В подвальчике у Пяти углов мы с Володей открыли ещё один магазин пластинок. И часто заглядывали туда в надежде «откопать» что-то новенькое. Привлекало и такое обстоятельство: это был единственный в городе магазин, куда «подкидывали» из других торговых точек нераспроданные пластинки по малой или даже символической цене – 30, 10 копеек, а некоторые и по одной копейке! Видимо, утилизация нереализованных дисков обошлась бы дороже. В основном «копеечными» были литературные записи либо театральные спектакли (обидно, конечно, становилось за такой «культурный неинтерес» своих сограждан). Этих литературных пластинок, раз уж такой случай, я накупил в подвальчике за бесценок в те годы довольно много, десятки. Среди них попадались шикарные записи с первоклассными артистами и чтецами! Например, вот эти: А в тот раз, в самом начале ноября, я увидел там пластинку с произведениями Баха, тремя его Сонатами для виолончели и клавесина (харпсихорда, как написано). – Если быть точным – не виолончели, а виолы или альта да гамба, – сказал стоявший рядом и прекрасно просвещённый в этом вопросе Володя. Видимо, из-за малого тиража пластинка была в этом магазине в единственном экземпляре – красивая, с незнакомым портретом композитора. В особо прочном конверте, потому что импортная, чешской фирмы «Supraphon», да ещё при совместном производстве с японской фирмой «Nippon Columbia»! И исполнители были чехами – виолончелист Янош Штаркер и известная клавесинистка Зузана Ружичкова. А запись, как гласила надпись на обложке по-английски, была сделана в 1977 году «студией “Супрафон” в доме художника». Мне очень захотелось иметь эту вещь, но цена в этот раз была далеко не символической – три рубля с полтиной! И это ещё уценка после четырёх! Обычная-то отечественная пластинка стоила, как уже говорилось, рубль сорок пять. Для бедного студента разница существенная, поэтому я по-музейному благоговейно повертел конверт с этим диском в руках и со вздохом вернул продавцу. Через день мы столкнулись с Володей в кассе Большого зала Филармонии. Как выяснилось, оба приобретали билеты на концерт с исполнением в конце ноября Мессы си минор того же Баха. То исполнение было настолько важным для музыкальной жизни города и потому аншлаговым, что билеты надо было приобретать едва ли не за месяц. Когда вышли на Невский, он спросил: – Ты куда теперь? – Да вот, получил сегодня стипендию, хочу купить ту пластинку с сонатами Баха. – Зря прокатишься! Я был там вчера, её уже нет. – Жаль, – ответил я. И мы разъехались в разные стороны. Прошла неделя, мы встретились теперь уже на моём дне рождения всё в том же тесном дружеском кругу. И прямо с порога Володя широким жестом вытащил из своего портфеля… ту самую пластинку с Бахом! Сначала я обрадовался, а потом удивился: – Ты же говорил, что её уже купили! – Я не говорил, что купили! – торжествующе заявил Володя. – Я сказал только, что её там уже нет! Выходит, он специально съездил на другой день к Пяти углам и приобрёл её для меня! Это очень тронуло. В тот же вечер у меня дома мы играли друг другу прелюдии и фуги из ХТК Баха и отчасти разбирали их. Незадолго до этого я приобрёл книгу А.Чугаева "Особенности строения клавирных фуг Баха", с интересом изучал её и показывал теперь Володе. Говорил ему ещё, помнится, что в сюитах, прелюдиях и других клавирных произведениях Баха мне всегда нравилась "паутинка" из чередования 8-х, 16-х и 32-х нот – такая, например, как в ре-диез-минорной или ля-минорной прелюдиях из второго тома ХТК. Последняя с её сплошными хроматизмами и зеркальным отображением обеих половинок, сказал я, в чём-то даже предвосхищает Хиндемита; он согласился – не знаю, искренно или из деликатности. А потом Володя сел за клавиши и заиграл 12-ю прелюдию фа минор из того же второго тома со своими попутными комментариями: – Считается, что эта прелюдия вся такая из себя душещипательная и должна вышибать слезу, так её обычно и исполняют – "с чуйством", особенно некоторые девушки. Ах, та самая моцартовская "лирическая секста"! Ах, предвосхитил романтиков! – утрируя "сопливость" и извиваясь во время исполнения, Володя пародировал чувственный стиль игры. – А на самом деле музыка эта, скорее всего, задумывалась как лёгкая, танцевальная! – тут он сыграл совсем по-другому, гораздо быстрее и "стаккатнее". – Такое исполнение само напрашивается из фактуры, из басовых точек и синкопированного ритма! Так уж получилось, что весь тот месяц был у нас связан с именем Иоганна Себастьяна Баха, хотя год был для композитора и не юбилейный. 26 ноября мы присутствовали на той самой баховской Мессе с хором Капеллы, а через день – на концерте Рудольфа Керера (пианиста мирового уровня, наряду с Гилельсом и Рихтером), который исполнял, помимо произведений Прокофьева и Шопена, Первую клавирную партиту Баха. За годы нашего общения Володя привил мне пожизненную глубокую приверженность к Баху и приучил меня к вдумчивому вслушиванию в его музыку. Наши походы "на Баха" в Большой и Малый залы Филармонии в ноябре 1983-го
Год 1983-й, декабрь
К национальному вопросу В тот декабрь наши культпоходы украсились балетом Л.Минкуса «Дон Кихот», хором Елизаветы Кудрявцевой, которому аккомпанировала на органе наставница Володи Нина Оксентян, и фортепианными концертами Моцарта в исполнении Элисо Вирсаладзе, которая обычно приезжала к нам с гастролями каждый декабрь. Кончался 1983-й год – год, когда мы уже совершенно свободно общались с Володей на любые темы, среди которых одной из наших излюбленных была тема национального вопроса. Он был неравнодушен к прибалтийским народам и с жаром доказывал мне различие характеров у латышей и литовцев: – Почему-то принято считать, что прибалты все холодные, занудные и малоэмоциональные. Ты думаешь, что между ними нет разницы? А я вот много ездил по Прибалтике и могу сказать, что все они сильно отличаются друг от друга! Если латыши, да, более сдержаны и замкнуты, то литовцы, наоборот – открытые и раскованные люди. Я это увидел, когда много с ними пообщался. Что касается эстонцев, то он рассказал однажды: – Пару лет назад мы ездили с группой в Тарту, и меня прозвали в нашем коллективе «добрый эстонец». Наверно, в лице всё же что-то эстонское есть. А был среди нас и «сердитый эстонец», наш экскурсовод, так его за глаза называли. Вообще-то эстонцы на нас во многом похожи, разве что более скрытные. Затрагивали мы, случалось, такую сложную и деликатную тему, как еврейство и антисемитизм. Нам это было просто интересно, хотя еврейских кровей в нас обоих ни капли нет. В то время антисемитские тенденции иногда проникали в печать. То была, похоже, последняя подобная волна в нашей стране за её советскую историю! Когда в тот месяц я однажды прочёл Володе очередную такую публикацию (из серии «По следам криминальной хроники», где рассказывалось, как некий Вассерман «надул» на крупную сумму некоего Вайпермана; тут уж невооруженным глазом видна была позиция автора), Володя ответил: – Тема еврейства у нас искусственно раздута! Она эксплуатируется всеми сторонами, причём каждой по-своему разумению. У меня, например, много друзей евреев. Между прочим, один из них как раз-таки очень переживает из-за своей национальности! (Возможно, имелся в виду Борис Райскин, с которым немного позднее Володя будет играть в ансамбле "Барокко Консорт" – прекрасный виолончелист и рок-музыкант, трагически покончивший с собой в 1997 году). Володя продолжал: – Поэтому трудно к еврейскому вопросу подойти объективно и нетенденциозно, отделить все наслоения. Не стоит он такого скрещивания сабель! Ну и, конечно же, тут же травили мы вовсю еврейские анекдоты (кстати, и сами евреи при мне не раз с удовольствием таковые рассказывали), как же без них! Стук в дверь: – Откройте, КГБ. Здесь живет Хаймович? Голос из-за двери: – Да разве это жизнь? – Хаим! Оказывается, у тебя брат в Израиле, – говорит ему жена. – Почему ты раньше не сказал мне, что у тебя есть родственники за границей? – Ха! Разве он за границей? Это я за границей! Рабинович удивляется: как это Гагарин облетел весь земной шар и всё-таки вернулся в Советский Союз! Плакаты в ОВИРе: "Лучше иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких – на дальнем", "Тише идиш – дальше будешь!" Если репатриация в Израиль будет продолжаться такими темпами, то к 1990 году в Ленинграде останется одна еврейка – Аврора Крейсер.
Год 1984-й, январь
Гайдн и Шуберт В январе я уезжал во Львов, Борислав и Киев к родственникам (через полтора года поеду к ним уже с Володей), но тем не менее мы успели с сходить в тот месяц послушать органные произведения Баха в исполнении Сергея Дижура и ораторию Гайдна «Семь слов», в которой солировала семья Лисициан. Йозефа Гайдна Володя, как помнится, назвал первым из пятёрки своих любимых композиторов. Для меня лично роднило его с Гайдном и то, что Володя всегда представлялся мне в мажоре, а ведь и почти вся музыка у Гайдна написана в мажоре, тогда как сам я тяготел к минору (ми-бемоль минор был моей любимой тональностью, в ней я написал в 1981 году и свою Первую фортепианную сонату – весьма романтическую и огромную, на 28 страниц, которую так и не осмелился показать Володе – и, наверно, правильно). Чувствовалось, что рациональный и оптимистичный Гайдн близок Володе по складу и мышлению. Святослав Рихтер, как теперь стало известно, писал в дневнике: «Милый Гайдн, я его очень люблю, а другие пианисты? Сравнительно равнодушны. Как досадно»; «Гайдн, конечно, писал музыку для удовольствия (для XVIII века это типично — ее и заказывали для удовольствия). Теперь в XX веке она остается такой же – нам на радость»; «Мой совет – чаще слушать квартеты Гайдна. Вы получите массу удовольствия и пользы (может, даже для здоровья)». Володя восхищался Гайдном и как человеком: – Он был чрезвычайно порядочным, переписывал завещание целых 12 раз, чтобы никого не обидеть и всех учесть, включая даже конюха. Завещал он деньги и сестре, и в фонд бедных, и прислуге. У Гайдна был свой переписчик нот, он же камердинер по имени Иоганн Эльслер, он и ему оставил изрядную сумму, на которую потом Иоганн развивал танцевальные способности своей дочери. Вот так и стала Фанни Эльслер благодаря Гайдну знаменитой на весь мир балериной. Она гастролировала в Европе, в Америке, бывала и у нас, в Петербурге. Тот же январь 1984-го был у нас во многом связан и с музыкой Франца Шуберта, ещё одним любимым володиным композитором. Ему была посвящена лекция «Музыкальный романтизм», на которой мы оказались почти случайно; слушали мы тогда же как оркестровые произведения Шуберта (дирижировал Михаил Плетнёв), так и скрипичные в исполнении Ильи Калера и Олега Кагана (с оркестром Саулюса Сондецкиса), а также вокальные, которые пели ученицы Нины Дорлиак. Кстати, Володя сам всегда напоминал мне Шуберта – и внутренне, и внешне, судя по сохранившимся портретам композитора и воспоминаниям о нём. Такая же неуклюжесть и неустроенность в быту, такой же не от мира сего близорукий взгляд, зато такой же богатейший внутренний мир и стихийная музыкальность. Правда, не знаю, был ли Шуберт холериком, а вот Володя явно из этой когорты – его вспыльчивость иногда прорывается помимо его воли. Про себя я в те годы нашего тесного общения называл его ещё и «вундеркиндом». Он действительно часто был похож на большого гениального ребёнка (но звать его всегда хотелось именно Володей, а не Вовой и не Владимиром). Не знаю, каким он был в детстве, но вполне возможно, что и в самом деле вундеркиндом. Поначалу мне казалось забавным, что он каждые два часа, где бы мы с ним ни находились, отзванивается родителям, сообщая, что всё в порядке. И это когда «ребёнку» уже за 20! Но позднее понял, что это серьёзно. Особенно когда сам стал папой. С юности он страдает диабетом, к которому позднее прибавилась гипертония. Однажды он съел при мне гроздь винограда, побледнел и упал на диван. Еле удалось откачать его. А ведь он всего на каких-то три года старше нас всех – меня, Светы, Миши и Жанны! – Завидую я вам, ребята! – прорвалось у него однажды в ту зиму. – Можете жить беспечно и не думать о том, что там у вас в требухе делается! 1-5) Пластинки с музыкой Гайдна и Шуберта, которые слушали мы с Володей; 6) Из детских его фотографий имеется пока только эта (примерно 1965 год); 7) Не правда ли, есть сходство молодого Владимира Радченкова (для знающих его) с этим портретом Франца Шуберта кисти Антона Депаули?
Год 1984-й, февраль
Чуть-чуть политики В тот високосный февраль умер Юрий Андропов, простоявший во главе страны после Брежнева почти 15 месяцев. Володя искренне переживал его смерть: ему казалось, что с приходом Андропова наконец-то началось у нас какое-то движение: – Жаль, не успел он довести до конца начатое. Молодец ведь, так решительно взялся со своим приходом к власти за коррупцию! Она у нас достигла космических размеров, даже от народа больше не скроешь. При нём уже и уголовку по многим таким делам возбудили! Володя восторгался конкретными проектами, начатыми Андроповым: – Никакого тебе «бла-бла-бла», а сразу заговорил о порядке в монополии на пушнину и о дисциплине на производстве. И между прочим, именно Андропов наконец-то официально разрешил у нас рок-музыку – все эти ВИА и вообще всю советскую рок-культуру! Понятно, что во многом мы были тогда наивны в своих суждениях, и особенно это проявляется в свете сегодняшнего опыта. Львиную долю информации получали мы в начале 1980-х из тайного слушания «вражьих голосов» – "Немецкой волны", «Голоса Америки», но более всего «Русской службы Би-би-си» ("BBC Russian Service"). В то, что Советский Союз – «колосс на глиняных ногах», как тогда нам сообщали эти радиостанции, пророча его скорую гибель, мы, разумеется, не верили. Но какое-то движение, шевеление в верхах и низах явственно чувствовалось. О "Русской службе" тоже ходили меж нами анекдоты: Милиционер успокаивает в ГУМе потерявшегося мальчика: – Сейчас мы объявим по радио и придут твои родители. – Для того, чтобы они услышали, надо передать по "Би-би-си"! Уборщица подмосковного дома творчества «Малеевка» подходит в столовой к маститому писателю и говорит: – Я ваше "Би-би-си" на шкаф переставила. Есть обычай на Руси — слушать на ночь "Би-би-си“.
Год 1984-й, март
Наша музыкальная жизнь В самом начале марта после одного из походов в кинотеатр мы проходили как-то днём с Володей мимо дома Жанны. – Зайдём? – вдруг спросил он. – Шутишь? – испугался я. – Нет, на полном серьёзе! – ответил он одним из излюбленных своих выражений. – Ну что ты, неудобно! – стал я сопротивляться. – Без предупреждения. – Ничего, мы же свои! – А вдруг она не дома? Видно было, что ему очень хотелось зайти. Я долго пытался вычислить по виду окон (шестой этаж «тысячеквартирного» дома), на месте ли хозяева или в отсутствии. И когда мы всё-таки завалились к Жанне (в те времена это было просто: позвонил в дверь – тебе открыли!), Володя с ходу поведал ей: – Знаешь, наш Мишель – Алан Пинкертон и Хорхе Коломар в одном лице, как оказалось! И принялся азартно рассказывать ей о моих изысканиях и хождениях под окнами (конечно, это был дружеский «стёб», не более; а имена эти мне тогда ни о чём не говорили). Вскоре мы оказались усаженными за чай. Володя был в ударе! Он сыпал анекдотами и восторгался виденной недавно постановкой студентами Театрального института оперы «Кармен», когда певицу по ходу действия герои кидают друг другу на руки, а она на лету поёт. Он рассказывал о судьбе «Битлз» и цитировал Оскара Уайльда. Жанна пригласила нас к себе на свой двадцатилетний юбилей 11 марта, куда мы и пришли уже вполне официально через несколько дней. Володя в тот вечер играл на рояле много музыки барокко, импровизировал джазовую музыку. Вообще в музыкальном плане он оказал на Жанну сильное влияние. Потом она мне признавалась: – Наш Володя познакомил меня со средневековой музыкой, благодаря ему я узнала ансамбли «Хортус Музикус», «Про Анима», оркестр Серова, проникла в разнообразные старинные стили. С его подачи я приобрела много замечательных пластинок, он привил мне хороший вкус в музыке. Несмотря на то, что обитали мы все, то есть студенты музыкальных учебных заведений и по совместительству друзья или однокурсники, в разных концах города – кто в Купчино, кто Васильевском острове, кто на Гражданке, как я, а кто на Юго-Западе или в Весёлом посёлке, – всё равно жизнь у всех нас кипела в основном вокруг центра города, то бишь главным образом вокруг Невского проспекта. Глядишь – появилась очередная пластинка с Генделем или редкие ноты Пёрселла в музыкальном магазинчике Дома Книги, в «Музфонде», или увидели интересный анонс на афише в витрине Малого зала Филармонии, или новую книгу о Бахе в киоске фойе станции метро «Невский проспект» – ещё одной излюбленной нашей музыкальной «точки», удобно находившейся на перекрестье всех наших путей, – надо скорей сообщить об этом и съездить туда! А что пойдёт на следующей неделе в Большом зале? Да ещё ведь есть Капелла, Малый оперный, Дом актера, Дом Кино… Поэтому мы, студенты-однокурсники училища, неизменно сновали по всему Невскому и постоянно сталкивались друг с другом и с Володей: обе Светы – Ветлова и Майорова, оба Миши – Журавлёв и Строков, Жанна Краснова и Таня Демитриадес, Катя Смирнова и её будущий муж Саша Харьковский (вернувшийся из армии на 2-й курс ТКО, ныне преподаватель Консерватории, радиожурналист и композитор), и ещё многие другие. Мы составляли вместе некое броуновское движение в центре Ленинграда, и в этом не было ничего удивительного: на Невском мы находились, словно в стенах музыкального училища, то есть в их продолжении. Филармонию и Капеллу мы посещали если не ежедневно, то раза 2 – 3 в неделю обязательно. Так прошла у нас по крайней мере вся первая половина 80-х. В ту зиму и весну я вволю набегался на пианистов: заграничных – таких, как Серджио Пертикаролли (Италия), Лидия Грыхтолувна (Польша) и Рональд Фаррен-Прайс (Австралия), москвичей – Александр Целяков, Валерий Кастельский, Борис Бехтерев, а также слушал в Капелле исполнение Рахманинова преподавателями нашей консерватории Марком Золотарёвым и Эдуардом Базановым. Тогда ещё я не терял надежды тоже стать пианистом. Весной того 1984-го года мне даже самому довелось выступить в Капелле с «Арабеской» Дебюсси на отчётном концерте училища (посчастливилось пройти по конкурсу). А Володя всё больше тяготел к старинной музыке. Но хорошо знал и современную, как свеженаписанную, так и вообще музыку ХХ века, особенно западных композиторов – Шёнберга, Хидемита, Бриттена (из того немногого материала, понятно, что было доступно нам в те годы). Он не был консерватором и никогда не открещивался от современных достижений. Он купался в мире музыки и великолепно в ней разбирался! Очень любил Володя домашнее музицирование. При мне часто играл по памяти и по нотам многих композиторов, особенно эпохи барокко. Если ему попадались в руки новые ноты старинных авторов – мог часами играть по ним с листа! Помню, я всё приставал к нему с вопросом: – А может ли современный композитор, имеющий представление о барочной музыке и хорошо владеющий этим стилем, написать что-нибудь примерно такое же? Чтобы было не отличить. Володя отвечал недоумённо: – Может, но зачем это нужно? Однако через пару лет ему и самому пришлось сочинить «что-то этакое» в стиле позднего барокко, так уж сложились обстоятельства. Об этом случае со «старинным советским композитором» я расскажу немного позже.
Год 1984-й, апрель
«Доктор Фаустус» В то время я страстно увлекался немецким писателем Томасом Манном. Перечитывал все его произведения, что у нас издавались, и особенно впечатлился его романом «Доктор Фаустус», о котором впервые узнал из записок Генриха Нейгауза (с этого всё и началось). У меня была большая книга издания 1960 года с полным названием романа: «Доктор Фаустус . Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом», которую, несмотря на её внушительный объём, я перечёл взахлёб не меньше десяти раз. В этом произведении подробно рассказывается о жизни и творчестве вымышленного композитора, а по ходу повествования делаются глубокие замечания и размышления о музыкальном искусстве. Эта книга стала для меня по сути энциклопедией музыки. Роман Томаса Манна сильно действовал на меня, и я пытался передать свой восторг Володе. Это получилось без особого труда – он вполне разделял мою любовь к «самому музыкальному» из всех литературных произведений писателя. Между прочим, в романе говорится (устами вымышленного учителя-музыковеда-лектора Венделя Кречмара) и о том самом Ричеркаре из «Музыкального приношения» Баха, когда-то увлекшего Володю, а затем с его подачи и меня. Говорится так: «Музыка эта предназначена более для глаз, нежели для ушей». А в апреле 1984-го у нас в кинотеатрах на некоторое время, очень короткое, появился германский фильм «Доктор Фаустус», снятый за пару лет до этого. Когда я увидел афишу, то сначала не поверил: неужели на тот самый, томас-манновский сюжет? Оказалось – да! Конечно, я сразу пошёл на него, да ещё и Володю с собой потащил. Но, как это случается при просмотре экранизаций любимой литературы, фильм показался по сравнению с книгой поверхностным, весьма урезанно передающим музыкальную и духовную сторону романа. – Плеваться хочется! – рубанул я с плеча своему спутнику, когда вышли из кинотеатра. – Обычно так и бывает, когда хорошо знаешь первоисточник, – спокойно ответил Володя. – Хороших, талантливых экранизаций очень мало. – А этот кувырок в конце фильма меня вообще добил. Это уже перебор! Самое трагичное место в книге, когда герой падает у рояля – а тут просто какое-то сальто-мортале у него через стул вместо припадка! И долго я ещё разорялся в своей юношеской категоричности. А Володя вдруг спросил: – Знаешь, кто был в некоторой мере прототипом романа? Арнольд Шёнберг! – Вот это да! – в очередной раз поразился я володиному всезнайству. В общем, фильм тогда мне резко не понравился. Надо будет пересмотреть, в наше время появилась вместе с интернетом такая возможность. Скорее всего, теперь уже смягчусь в своих оценках…
Год 1984-й, май
К вопросу вкуса «Квартирники» у меня дома продолжались, и звучала на них не только академическая музыка. Тогда бешеную популярность приобрела в нашей стране вторая пластинка латышского рок-ансамбля «Зодиак» – «Музыка во Вселенной». Она звучала из всех окон, а поскольку настало тёплое время года и окна были у многих нараспашку, эта «Музыка во Вселенной» преследовала меня повсюду – до того, что в конце концов я тоже приобрёл ту пластинку и слушал её иногда. Позднее, хоть и с трудом (через отца и Москву) раздобыл и первый их диск – «Disco Alliance» 1980 года, тираж которого был в разы меньше. Мы крутили эти пластинки тоже. – Да, молодцы ребята, талантливые! – одобрил их работу Володя. И сделал несколько тонких замечаний относительно ритма и мелодики их пьес. А потом добавил: – Есть ещё одна прибалтийская группа под названием «Арго» – уже не латвийская, а литовская, – которая работает примерно в таком же стиле. Тебе должно понравиться. И в следующее посещение принёс мне их пластинку. Так он познакомил меня и с этой, менее известной группой, которую я тоже с удовольствием слушал. В «копеечном» магазине купил я и кое-что непривычное слуху: записи японских вокальных квартетов «Ройял Найтс» и «Бонни Дзякс», они мне тоже поначалу нравились. Но… – Вот это уже чистая коммерция! – осадил мою симпатию Володя. – Хорошая, добротно сделанная коммерция! – Что такое коммерция? – Музыка на продажу, – кратко пояснил он. Только тогда я начал что-то понимать. И в дальнейшем благодаря Володе всё более тщательно разделял эстрадную музыку на «настоящую» и «для продажи». Старший комсорг нашего училища Наташа Ануфриева в свободное от руководства нами время увлекалась собиранием магнитофонных записей, совсем неподобающих для комсомольского вожака – блатных песен раннего Александра Розенбаума (которых он сегодня стесняется), Аркадия Северного и «Братьев Жемчужных». Под большим секретом, прося не выдавать её, она в том мае поделилась ими со мной (всё равно через месяц я заканчивал училище, так что ей это ничем не грозило). Весь этот репертуар я переписал с её кассетника на свои бобины. И хотя мне такая тематика была совсем не близка, но в этих песнях открывалась мне какая-то совсем другая жизнь, по-своему занимательная, и я иногда крутил эти записи на папином старом магнитофоне «Дайна», даже записывал тексты в тетрадку. А вот Володя на дух не переносил Розенбаума, называя его «одессит питерского разлива». В то время появилась у меня и плёнка с записями Вилли Токарева, в которых для меня открылся ещё один мир – мир русского эмигранта в Америке. Но мне быстро наскучила квинтесенция пошлости, которой была пропитана каждая его песня. Для меня он и сейчас остаётся ярким примером эстрадной пошлости. И окончательно развёл меня с Токаревым такой случай: приехав однажды ко мне, Володя услышал звучащего из магнитофона Вилли, тут же сморщился, вытащил на ходу часть плёнки и закричал: – Вырубай скорее, а то не выдержу и плёнку порву! Как-то сразу я его понял. Наверно, сам созрел к тому времени. Бобины убрал подальше и больше эти записи не слушал. Отпало желание. Вот так мой друг прививал мне хороший музыкальный вкус. И конечно, не только мне.
Год 1984-й, июнь
«Hortus Musicus» В начале восьмидесятых мы благодаря Володе узнали такое яркое и интересное явление в музыкальном мире, как ансамбль «Хортус Музикус». Он родился в Эстонии, его создателем стал 19-летний студент Таллиннской консерватории скрипач Андрес Мустонен, который привлёк к исполнительству других студентов и студенток. Они-то и явились первопроходцами так называемого аутентичного исполнительства в Советском Союзе. Изучив древние нотные рукописи и трактаты, эти музыканты стали исполнять музыкальные произведения, написанные аж в VIII веке – и позднее, вплоть до XVII, после которого идёт уже известная нам и более привычная на слух музыка. Новоявленный коллектив сразу, ещё в начале 1970-х, стал настолько заметным и востребованным, что уже через полтора года музыкантам посчастливилось записать свою первую грампластинку на фирме «Мелодия». В тот год, о котором рассказываю, исполнилось 10 лет со времени её выхода, и с тех пор ансамбль записывал ежегодно ещё по одному диску. В том 1984 году «Хортус Музикус» иногда гастролировал в Ленинграде, и мы не могли пропустить каждый такой приезд. Володя познакомил нас, своих друзей, с некоторыми записями ансамбля и на магнитофонных кассетах. Поскольку кассетника у меня тогда не было, приходилось слушать их у кого-нибудь дома или на училищном магнитофоне. Нас поражало необычное на слух звучание – мелодические и особенно гармонические построения были «поперёк» тому, чему нас учили и в музыкальной школе, и в училище. Непривычными эти сочетания звуков казались оттого, что в Средние века гармония только становилась на ноги. Мы слышали параллельные квинты, мелодические ходы без обострения тяготений, и это было весьма увлекательно: оказывается, и так тоже можно! Володя настолько «болел» тогда этим ансамблем и глубоко знал их творчество, что помнил всех исполнителей по именам и фамилиям, несмотря на то, что все они эстонцы. Один раз, пока мы сидели с ним в тот июнь в электричке, отправляясь на очередную нашу загородную вылазку, и разговаривали о «Хортусе», он попутно выписал по моей просьбе на подвернувшемся крошечном клочке бумаги его состав. Да ещё и набросал напротив имён маленькие портретики! – «Hortus Musicus» переводится как «Сад музыки» или «Музыкальный сад», – говорил он. – Вообще у нас всё самое передовое и смелое обычно идёт из Прибалтики, так уж повелось. Знакомство со средневековой музыкой подвигло меня тем летом приобрести одна за другой разные блокфлейты – «сопранушку», «альтушку» и «тенорушку». Тогда, по счастью, они начали поступать в наши магазины. Из Германии, из хорошего дерева. Об этом я сообщил Володе в письме, когда уже обитал в Средней Азии, на самом юге Туркмении, в каких-то полутора-двух сотнях километрах от Ирана и Афганистана. А ему аккурат в то время выпало неимоверное счастье лично пообщаться с ансамблистами «Хортуса» во время их выступления в Крыму, и даже поиграть на их инструментах. Об этом он написал мне в ответе: «BlockFlote – это, ей-ей, недурно. Сим инструментом, при наличии ушей, может овладеть всякий человек – ну и бог ему в помощь! Кстати, в свете Ялтинского фестиваля камерной музыки (ну и ну!) звучали под сводами Ялтинского театра имени Чехова флейты, виолы, поммеры, цинки, крумхорны, вёрджиналы, литавры и цевницы славного ансамбля «Hortus Musicus» (Ревель). Первое отделение: музыка елизаветинской Англии, второе – мадригальная комедия Адриано Банкьери «Чудаковатая старость» («Болонские старики») с участием всех персонажей италийской комедии масок, во главе, естественно, с доктором Панталоне. После концерта «Hortus» запустил за сцену всех желающих ознакомиться с инструментами, и даже ялтинские вышибалы с мерзкими рожами (у них там что в театре, что в кабаке – всё без разницы, везде полно вышибал) не могли сдержать толпы любопытствующих. Когда в моих руках появилась флейта Нээме Пундера, я был потрясён чрезвычайной податливостью этого инструмента, равно как и он тому, что я воспроизвёл только что игранную им тему. Когда же милая девушка Имби Тарум, слегка краснея и тушуясь, подвела меня к клавесину (вернее, к спинету, да и вообще там был вёрджинал), руки задрожали, ноги подкосились, холодным потом прошибло – но я всё же поиграл, и мой восторг при виде этого инструмента был оправдан. Самое сильное моё музыкальное впечатление (пока) за весь 1984-й, сколь его прошло».
Год 1984-й, июль
Фольклорная экспедиция и письмо 6 июля умер мой дед, зоолог Вячеслав Всеволодович Строков, живший в Москве и лишь изредка навещавший нашу семью. Жаль, что всего раз Володя увиделся с ним мельком на моём дне рождения, да и то за общим столом, где сидело человек десять. Они вполне могли бы интересно пообщаться вдвоём!.. Потом мы расстались с Володей на более, чем два месяца – июль я провёл в Крыму, а август и почти весь сентябрь ещё дальше, в Средней Азии. И уже оттуда узнал, что он тоже был в Крыму, приехал туда как раз после моего отбытия! Обидно – я из Крыма, а он в Крым!... Зато уж через год мы будем оба обитать в июле 1985-го на берегу Чёрного моря в бежевой палатке, которая была хорошо мне знакома едва ли не с рождения – почти каждое лето мы жили в ней нашей семьёй у моря дикарями. А перед этим Володя, оказывается, вновь съездил в фольклорную экспедицию, проводившуюся нашей любимой Еленой Николаевной Разумовской. Позднее он с восторгом описывал мне в том же письме впечатления от этой поездки: «First of all – экспедиция. Захватывающая и потрясающая! Первую половину были в Белоруссии, в аккурат подле старой польской границы, половина of population православные, половина – католики. Видели достопримечательный костёл, в котором от I-й до самой II-й мировой войны служил православный клир – сей костёл, по преданию, был проигран ксендзом католическому священнику в карты! Слышали древние обрядовые canticles, среди коих попадались даже средневековые рождественские лауды (правда, в тропированном (?) – под ритм шага – варианте, но в квинтовой дублировке, organum). Я наслаждался звучанием сосудов гудебных, цЫмбалами и скрЫпицами представленных. Венцом всему была запись свадьбы. Свадьба так себе, обряд наполовину, но озвученная настоящей троястой музыкой (или, по тамошней манере выражаться, капеллой), в составе: скрипка, цимбалы и гармонь – в роли портативного органа. Там, изрядно пребывая под парами, аз многогрешный, заполучив из рук скрипача скрипку, потряс вселенную такими громовыми руладами, что всех присутствующих охватил столбняк, кроме музыкантов, коим игра со мной явно доставила некоторое удовольствие (и это при том, что скрипку я в руках держал третий раз в жизни!). * Скрипач – личность зело достопримечательная: зовут его Станислав Савельевич Регер (Sic!). Из прибалтийских немчинов (там же и Латвия рядом). Затем – в Псковско-Смоленских землях, с коими я всею душой сроднился, и всякий раз, там бывая, душой воскресаю! Что до тела, то решение моё было вынесено благодаря приговору врача: на месяц в деревню, а нет – так в гроб! И надежды мои оправдались: выкарабкался (лажа с давлением)». Это первое из трёх писем, написанных мне Володей за всё время нашей дружбы. Второе будет через год, в июле 1985-го, третье - следующим летом, в 1986-м. А новое бумажное письмо он теперь вряд ли напишет – появилась почта электронная, которую мы недавно уже и опробовали, перекинувшись парой фраз. Но это, конечно, не бумага, передающая и настроение пишущего, и атмосферу писания. С одной стороны, всего три письма – это хорошо, потому как говорит о том, что общались мы с ним более лично, нежели письменно. С другой – всё-таки жаль, что всего три, и вот почему. Во-первых, такое количество яркой и полезной информации обо всём, да ещё в концентрированном виде, при общении не запомнишь, поэтому столь многое и упустил я, конечно же, из описания наших бесед в первой половине восьмидесятых; а во-вторых, в письмах, хочешь не хочешь, фиксируется на желтеющей со временем бумаге то время, та наша жизнь, которая никогда уже не повторится. «Если изустная речь воздействует на собеседника живее и непосредственнее, то начертанное слово имеет другие преимущества: его выбираешь, не торопясь наносишь на бумагу и, запечатлённое на ней, оно обретает прочность и потому в состоянии оказывать на читающего более длительное воздействие» (Т.Манн «Будденброки»).
Год 1984-й, август
Ещё кое-что из письма Послание своё Володя написал уже в августе и отправил его мне в Туркмению, в Байрам-Али – в ответ на моё, посланное оттуда (в Каракумах я скучал и писал всем подряд). «Приветствую возлюбленного собрата по Kunst’у, родству душ и многому другому! Признаться, приехав домой, перетряхнув вещи и уехав вновь, возлагал самые фантастические надежды на встречу с тобой – увы, не оправдавшиеся. Зане - я всё это проделывал, опередив твоё письмо на добрые две недели. И когда оно пришло ко мне домой, было вскрыто домашнею цензурою, было уже поздно (случилось это аккурат в августе 6-го). И сейчас, вернувшись, обнаружив твоё письмо, с радостью прочтя его, затем воспылав гневом на предмет того, что в доме нет ни клочка писчей бумаги, найдя её, наконец, затеряв при этом куда-то моё письмо – ты же знаешь меня, рахмана эдакого, рассеянностью самих Россини и Бородина переплюнувшего – так вот, всё это проделав, сажусь отвечать. Так что, лишившись любезно составленной тобой воспросо-ответной лоции, пускаюсь в плавание по звёздам (аки древние)». Далее описание фольклорной экспедиции в Белоруссию и Псковскую область, приведённое выше… Поездка эта, как он пишет, оказалась вызванной не только его интересом, но и необходимостью – из-за проблем со здоровьем. А поскольку ради этого пришлось оставить друзей и девушку, с которой у него начали намечаться отношения – Володя переживает по этому поводу: «Хотя и оставил своих друзей: одного на вступительных экзаменах в ЛОЛГК, другого (sic!) – накануне суда (парень попал по собственному легкомыслию в такую скверную историю, что не приведи боже!), а любимую – в оскорблённых чувствах (на прощание теоретическая кафедра ЛОЛГК её здорово обидела (сволочи)). Перехожу к следующему пункту: к моим сердечным делам. Парни правильно поняли причину маво от'езда: в конце концов я им нужОн живым. А Иринка, не поняв, оскорбившись – сбежала! Самым фигуральным образом, как жёны сбегали от мужов в XIX веке: «муж в дверь – жена в Тверь» (в Клин), не знаю, с гусаром или без гусара. Дело даже не в обидах, а в непонимании, что вдруг встало меж нами, в том, что, зазвенев, лопнула нить понимания того уровня, когда «я – это ты, а ты – это я» (as my lover murmured luing on my arm all the time of” travelling From St.Petersdurg to Pskov and back) (*как моя любимая мурявствовала, лёжа у меня на плече всё время нашего пути от Ленинграда в Псков и обратно. Уже тогда врала, стервь!). И потому – я ещё буду бороться за неё и за себя, попытаюсь найти её, но уже на успех не рассчитываю. Вот так закончились… впрочем, на фиг! Где трудится голова – Там труда для сердца мало; Там любви и не бывало; Там любовь — одни слова. (Н.М.Карамзин) Не согласен, но в данном случае…» Своё письмо Володе я совершенно не помню. Вероятно, я просил его рассказать о фортепианном произведении «Ludus tonalis» его любимого Пауля Хиндемита, потому что он отвечает: «Что есть Ludus tonalis? Цикл из 12-ти прелюдий и фуг (интерлюдии, зане из тональности в тональность), на манер ХТК. Этакий салют северогерманским полифонистам. Музыка просто бесподобная, но диавольски сложна для разбора. Гарантирую, что пройдя сквозь это сочинение, ты получишь бездну удовольствий и наслаждений уму и сердцу». Спрашивал я его также, выходит, о его творческих планах и о моих однокурсниках – Жанне Красновой, Свете Ветловой, Тане Демитриадес, Мише Журавлёве. «Что до моих планов, то я так хорошо отдохнул, что говорить об этом пока преждевременно. Не сочти за нежелание говорить на эти темы, просто ещё очень и очень рано. Miles pardon’es». (Ну, тут он, как всегда, скромничает). «Что до того, шо е це таке Крым, то, думаю, что ничего нового тебе не открою. До 13-го лазал по горам в одиночестве, затем приехал Серёжка Шилин, довольный, поступивший, чему я был несказанно рад. От Мишки Журавлёва и Мишки Пащенко никаких вестей. Jane из экспедиции направилась… куда – я так и не успел выяснить. Что до Тани Дём – выяснить и не пытался: слишком уж часто загоралась и не тухла лампочка на счётчике Гейгера с надписью: «Осторожно! Чужой человек!» А про Свету я просто очень давно ничего не слышал. Вольно же ей партизанить, уходить в подполье! Боле ни о ком сказать не имею. Ну, собственно, всё. Vale, amigo. С нетерпением жду твоего приезда и желаю, чтобы наши встречи более не носили случайного характера, время от времени. Желаю общаться с тобой почаще… Tibi eximo, carissime! ВР P.S. А датой своего приезда ты меня прямо-таки ошарашил. Хотел предложить тебе авантюру – смотаться на кораблём на Валаам (два дня). Но ты, я вижу, вознамерился просидеть в своём раю до конца невской навигации!..» Жаль, само собой, что володина «валаамская авантюра» не удалась! Она была бы захватывающе интересной. Побывать на Валааме мне удалось только через шесть лет после этого, в начале сентября 1990-го, благодаря моего отцу, раздобывшему трёхдневную путёвку «на двоих». Но к тому времени мы с Володей жили уже параллельными жизнями, в которых почти не было точек пересечения…
Год 1984-й, сентябрь
Музыка средневековая и современная Вернувшись в конце сентября из Средней Азии, где провёл почти два месяца, я устроился на первую в моей жизни работу по специальности. Однако стремление и дальше знакомиться со средневековой музыкой не пропало. Тем более, что «Хортус» продолжил с началом концертного сезона свои визиты к нам в Ленинград. С каждого их концерта мы уходили восторженные и просветлённые. Не только прибалты приезжали тогда к нам, но и чехи. У них-то аутентичное исполнительство давно стало традицией! 29 сентября мы с Володей и всё теми же друзьями – Жанной, Светой и Сергеем – ходили в Малый зал Филармонии слушать чешский ансамбль старинной музыки «Рожмберская капелла». Вновь с этой сцены звучала музыка Средневековья и Ренессанса. Но исполняли они её уже в другой манере и с другим инструментарием, нежели «Хортус Музикус». А накануне, 28 сентября, мы посещали уже не Малый, а Большой зал, где тоже выступали музыканты из Эстонии – симфонический оркестр республики с дирижёром Пеэтером Лилье. На этот раз исполнялась музыка самых что ни на есть современных композиторов – Аркадия Агабабова, Леонида Вишкарёва и, конечно, эстонских – Эстер Мяги, Лепо Сумеры и Яана Ряэтса. Мне понравился фортепианный концерт Ряэтса с сопоставлениями тональностей в финале, о чём я и сказал потом Володе. Он ответил: – Я так и думал, что понравится! Вполне в твоём духе. Позднее мы в ту осень под чутким руководством Володи продолжили познавать в Филармонии как старинную музыку (слушали, например, сценическую постановку оперы Генри Пёрселла «Король Артур», написанной в 1691 году), так и произведения наших современников (С.Слонимский, Б.Тищенко, А.Шнитке, Г.Банщиков, Г.Уствольская).
Год 1984-й, октябрь
Джаз Игоря Бриля Говоря о наших частых походах в Филармонию (в её Большой и мой любимый Малый зал), а также в Капеллу, я забыл упомянуть ещё одну важную сценическую площадку нашего города – Концертный зал у Финляндского вокзала, который мы тоже иногда посещали. Туда мы ходили, например, 6 октября 1984 года на концерт джазового музыканта Игоря Бриля. Володя считал своим долгом познакомить меня с творчеством этого исполнителя и композитора, потому и повёл меня на тот концерт. Тогда Игорь Михайлович Бриль находился на стремительном взлёте своего плодотворного музыкального пути. За его плечами было уже полтора десятка записанных грампластинок, в тот год он был принят в Союз композиторов. Играл он на рояле и сольно, и со своей слаженной «конторой», как называл Володя его «Ансамбль современного джаза». – Жирный и длинный плюс у Бриля – то, что он умеет исполнять во всех джазовых стилях! – сказал мне Володя в антракте. И поведал далее: – Он вообще-то окончил Гнесинку по классу фортепиано и должен был стать пианистом, исполняющим классику – Баха, Бетховена, Рахманинова, Прокофьева. Но в итоге переметнулся от академической музыки в джаз. Двадцать лет назад, в начале 60-х, это было смелым поступком! И повезло ему, что попал «в струю»: тогда как раз начали у нас в стране официально разрешать джаз, создавались по комсомольской линии молодёжные джазовые коллективы, некоторым даже позволялось выезжать за рубеж – дабы видели «за бугром», что и у нас есть джазовое искусство! И он поездил. Далее Володя рассказал мне, что этому великолепному мастеру к тому времени уже посчастливилось музицировать совместно с такими корифеями джаза, как Диззи Гиллеспи, Бобби Хатчерсон, Джо Хендерсон, Георгий Гаранян и Алексей Козлов. А с великими Дюком Эллингтоном и Дейвом Брубеком он играл даже в четыре руки! С нами в тот раз ходил на концерт мой отец Юрий Вячеславович. Любитель самой что ни на есть академической классики, он тем не менее старался приобщиться и к современным музыкальным течениям. Слушал он концерт с большим интересом. Чтобы сделать мне приятное к моему предстоящему на днях 20-летию, папа купил с лотка в фойе известное пособие И.Бриля «Практический курс джазовой импровизации» и, пока мы беседовали с Володей, успел незаметно сбегать за кулисы и попросить у автора сделать на книге дарственную надпись. Помню свою дикую неловкость перед Володей, когда после концерта уже на улице, на набережной Невы, была мне вручена родителем эта книга с напутствием на обложке: «Михаилу с пожеланием успехов от автора». Мне показалось ужасным, чуть ли не кощунственным отрывать божественного маэстро от творческого процесса такими пустяками!
Год 1984-й, октябрь же
Финский залив и Ладожское озеро В воскресенье 21 октября мы ездили за город, на берег Финского залива, с композитором Игорем Рогалёвым, преподавателем консерватории. Кроме самого композитора и Володи, меня с сестрой Светой и нашего друга Сергея, было с нами ещё три студентки с володиного курса, одна из них – Марина Голикова, уже принимавшая участие в таких поездках, другая захватила дочь-дошкольницу. Всего получилось девять человек. Компания подобралась жизнерадостная – все шутили и забавлялись, кто как мог, разводили костёр на берегу, а потом прошли с десяток километров от Репино до Дюн, несмотря на пасмурную погоду. Игорь Ефимович, тогда ещё молодой, держался с нами просто, как свой, и тот день мы провели в весёлом и содержательном общении.
А ещё через неделю, 28 октября мы с Володей уже вдвоём (не помню, что нас надоумило – скорее всего, просто так, под настроение) сели ближе к вечеру на Финляндском вокзале в первую подвернувшуюся электричку и махнули, сами не думая куда. Ехали очень долго. По дороге Володя рассказывал мне о французском поэте Парни, который упоминается в «Евгении Онегине». Эварист Дезире де Форж Парни, говорил Володя, часто переводился молодым Пушкиным и сильно на него повлиял. В итоге вышли мы аж на конечной станции «Ладожское озеро». Золотая осень только недавно отыграла пёстрыми красками, и наступила осень "пушкинская". Мы пошли по шоссе в сторону озера и набрели на музей «Дорога жизни» в Осиновце под открытым небом. Не знали тогда, что такой есть. Здесь, в одном из его комплексов, оказалась выставленной в качестве мемориальной разная техника военного времени. Был, например, памятник трёхосному грузовику «Студебеккер US6», поставлявшемуся в Советский Союз в годы войны из Америки по «ленд-лизу». – Вот на таких мы войну выиграли! – сказал Володя. Стояли здесь и самолёт "Ли-2Т", сделанный в Ташкенте, и катер-миномёт «Ленинград», произведённый уже в самом осаждённом городе, наряду с другими кораблями-героями – буксирными пароходами «Ижорец» и «Ижорец 8», да ещё канонерской лодкой «Бира». Увидели мы здесь и артиллерийские орудия – полковые и дивизионная пушки, зенитные установки, корабельные и сухопутные гаубицы. Хорошо, что в тот раз я не забыл свою «Смену 8М», и мы чуть-чуть «пофоткали» друг друга. Благодаря этому сохранилась хоть пара-тройка снимков с Володей. Но времени у нас было мало. Уже стемнело, а электрички ходили редко. Мы побродили ещё немного и вернулись назад, чтобы не застрять здесь на ночь.
Год 1984-й, ноябрь
И ещё о джазе Той осенью Володя неожиданно для всех уехал на несколько дней в Литву, чтобы поучаствовать в Vilnius Jazz Festival – очередном джазовом фестивале. Если не ошибаюсь, официально это называлось так: Вильнюсский Пятый молодежный фестиваль джазовых импровизаторов. Это был его первый вильнюсский опыт участия в подобных мероприятиях. Его игру заметили и отметили. Инесса Забежинская, которая тогда жила как раз в Вильнюсе, позднее вспоминала: «Володя очень любил импровизировать и одно время серьезно увлекался джазом. В бытность свою студентом Ленинградской консерватории, в 1984 г. вместе с несколькими другими ленинградскими студентами-джазистами (Максимом Леонидовым, например) он приезжал в Вильнюс на межреспубликанский конкурс джазовой импровизации. В конкурсе участвовали литовские, ленинградские, белорусские студенты, но первое место получил тогда уже солист Бакинской филармонии 19-летний Леонид Пташка. Один из вечеров, проведенный с участниками конкурса в битком набитой 10-метровой общежитской комнате, я не забуду никогда. Начав с обсуждения актуалий конкурса, плавно (и довольно быстро) перешли к анекдотам. Еще до перестройки, то есть поначалу озираясь по сторонам и приглядываясь к реакции собеседников. Лидировали в этом «кто кого пересмешит» Володя Радченков и Леонид Пташка. Не было ему равных в пародии на советских руководителей. Под утро мы с подругой вышли из комнаты с незакрывающимися от многочасового смеха ртами». Уже тогда Володя стал достаточно известен в джазовых кругах города. Незадолго до этой поездки он затащил меня в начале ноября на один из «джем-сейшнов», кои регулярно проводились в разных местах Ленинграда. На этот раз любители и профессионалы джаза собирались во Дворце Культуры молодёжи (так он тогда назывался). Выходили к фортепиано все, кто хотел. Володя тоже всласть наимпровизировался на любимые темы. После него играл Пётр Корнев, тогда ещё сравнительно молодой джазист, но уже хорошо заметный в этих кругах. Его бурная пьеса называлась «Что случилось с Боингом?» После исполнения Петра Володя подошёл к нему и спросил в шутку: – Так что же всё-таки с ним случилось? Так они познакомились, и в конце вечера импровизировали уже совместно. Через четыре года после этой встречи я начну работать концертмейстером в классе вокала родной сестры Петра – певицы Нины Корневой, и это наше тесное сотрудничество продолжается до сих пор, вот уже почти 20 лет. Недавно мы с Петром вспоминали на квартире у Нины Казимировны Корневой тот «джем-сейшн» и те импровизации. Сейчас Пётр Казимирович является одним из ведущих музыкантов в Джазовой филармонии на Загородном проспекте, основанной в 1989 году Давидом Голощёкиным. Когда после этой встречи мы шли с Володей по Невскому проспекту, он остановился возле здания Филармонии и сказал: – А вот на этом месте в конце 1950-х годов висел в витрине плакат: «От саксофона до ножа один шаг!» Эта фраза приписывается Хрущёву, который яростно ненавидел джаз и вообще всё непонятное ему. Он якобы произнес её на знаменитой выставке художников-авангардистов. Тогда джаз считался буржуазным искусством. – Странно: ведь его, кажется, придумало чернокожее население Америки, то есть угнетаемое, как нам любят говорить. А у нас всегда к угнетённым народам относились сочувственно. – Не совсем так. Сначала возник госпел, на основе спиричуэлса, его исполняли в методистских церквях. А потом уж появился так называемый «белый госпел», из которого собственно джаз и вырос. Потому он и считался буржуазной музыкой. Володя говорил иногда: – Тебе нужно начинать постижение джаза с Каунта Бейси и Оскара Питерсона. И подарил мне на день рождения книгу французского специалиста по джазу Юга Панасье под названием «История подлинного джаза» – редкое издание, вышедшее в нашей стране по-русски очень маленьким тиражом. Этот "деньрожденный" вечер мы много времени провели за фортепиано («на радость» соседям снизу). Володя снова импровизировал джаз и с восторгом рассказывал собравшимся о Дейве Брубеке (то было за три года до триумфальных выступлений легендарного американского музыканта в Москве): – Какие у него гармонические краски! Один раз какой-то «музыковредческий» журнал привёл одну его мелодию, записав «в голом виде», по трезвучиям: ми-до-ля, а затем на октаву ниже опять: ми-до-ля. Вот так, – и он сыграл это. – Непосвященный может сказать: что он, совсем уже чокнулся, этот Брубек? Это же убожество, примитив! А если сыграть полностью ритмически и гармонически, то есть с аккордами, как у автора – вот это уже будет гениально! И Володя, закрыв глаза и млея от удовольствия, исполнил эту тему так, что мы все прониклись его восхищением.
Год 1984-й, декабрь
Вирсаладзе В тот декабрь я много ездил по горящим путёвкам, которые моя мама раздобывала в школе, где работала учителем труда у девочек. Мы были с экскурсиями в Выборге, Таллинне, Новгороде. Жалею теперь, что не упросил её как-нибудь взять путёвку и на Володю. С ним бы путешествовалось куда интереснее и содержательнее! А наш Ленинград снова баловала, как всегда в декабре, своим посещением выдающаяся тбилисская пианистка Элисо Вирсаладзе. Моя сестра была в неё влюблена, то есть, как сказали бы позднее, являлась её фанаткой. Света не пропускала ни одного её концерта, и лишь только узнавала об очередном приезде исполнительницы, спешила в Филармонию, а после концерта дожидалась выхода из здания своего божества и благоговейно следовала метрах в двадцати позади артистки, окружённой более близкими знакомыми, до самого входа в гостиницу «Европейская», где Элисо Константиновна обычно останавливалась. Понятно, мне тоже приходилось принимать участие в этом «хвосте». Света ставила на проигрыватель пластинку с известным 23-м фортепианным концертом Моцарта в исполнении Вирсаладзе и играла на фортепиано абсолютно синхронно (!) с пианисткой. А оказавшись тем летом 1984-го по турпутёвке на Кавказе, она специально съездила за 300 километров из Нальчика по Военно-грузинской дороге в Тбилиси, чтобы только посмотреть издали на дом, где проживает её кумирша. Для меня же ценным было в Вирсаладзе ещё и то, что она в некоторой степени являлась ученицей моего любимого Генриха Нейгауза, который называл её «прелестной Элисо», и унаследовала его великолепную фортепианную школу. При этом многие статьи подчеркивали "воздушную непринуждённость и лёгкость" Вирсаладзе в быстрых пассажах. Действительно, её изящная и потрясающе виртуозная мелкая техника производила сильнейшее впечатление. Я с восторгом рассказывал Володе о безупречном вкусе пианистки и её исполнении Шопена. Но однажды – мы сидели в какой-то в кафешке – он, устав, видимо, от моих излияний, не выдержал: – Да, конечно, так-то оно так! Но эта её знаменитая лёгкость и непринуждённость иногда идёт в ущерб содержанию. Дело тут, думается, скорее было не в самой Вирсаладзе, а в подходе Володи к музыке вообще. 1-3) Жаль, что только эти программка и афиша сохранились с того декабря; 4-13) Пластинки с исполнением Э.Вирсаладзе из нашего домашнего собрания.
Год 1985-й, январь.
Вновь Мессиан И опять в день рождения моего отца, 10 января, пианист Анатолий Угорский пригласил его на концерт – на этот раз в Глазуновский зал Консерватории, и на этот раз музыка была совершенно необычной, почти немыслимой в те времена на нашей эстраде: цикл фортепианных пьес нашего французского современника Оливье Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» («Vingt regards sur l’Enfant Jésus»), увидевших свет 40 лет назад. Произведение, давно известное в мире (кроме нашей страны). Это было великим событием «для тех, кто понимает» – разумеется, в их числе и для Володи, который тоже пришёл вместе со всей нашей семьёй, и для моего учителя Станислава Венедиктовича Морено, а также для многих музыкантов, известных и неизвестных, сидевших в переполненном зале. Я-то как раз ничего тогда не понимал в происходящем. Только чувствовал по атмосфере, что присутствую на уникальном вечере. Помогло немного то, что Анатолий Зальманович, всегда всклокоченный и улыбчивый, сидел впереди меня, в первом ряду, с нотами этого произведения, разложенными на столе (и где он их раздобыл только? – не иначе, как из самого Парижа привёз!), и я, заглядывая в них через его плечо, лучше воспринимал слышимое. Исполнял в этот раз не сам Угорский, а… вот забыл фамилии двух молодых исполнителей – пианиста и пианистки, сменявших друг друга за роялем (похоже, его консерваторских студентов), а программки не сохранилось. Длилось всё действо очень долго, более двух часов. Но совершенно непривычные фортепианные созвучия не утомляли, было интересно. Из двадцати разнохарактерных номеров цикла мне больше всего понравились медленные – такие, как 3-й, 5-й, 11-й, 19-й. Мне показалось, что при разнообразной плотной аккордовой фактуре господствующей тональностью был фа-диез мажор. Так я и сказал Володе после концерта. Он засомневался: – Просто потому тебе так хочется думать, что это твоя любимая мажорная тональность. В ней написаны «Баркарола» Шопена, сонаты – 24-я у Бетховена и три подряд у Скрябина, да ещё твоя любимая 10-я симфония Малера. Между прочим, Мессиан написал эту музыку для своей ученицы, пианистки Ивонны Лорио. Она потом стала его женой. Вот так второй раз в жизни, как и три года назад, я знакомился с музыкой Мессиана. Потом оказалось, что именно Угорский был инициатором подобных концертов с почти что одиозным в советское время репертуаром. Понятно, что не всем это нравилось – может быть, потому он и был через три года изгнан из консерватории (кто пишет – «за экстравагантное поведение», кто – «за нарушение профессиональной этики», сейчас уже трудно сказать, ведь с 1990 года и по сей день он живёт в Германии). Позднее, когда с началом перестройки задышалось вольнее, он не раз выступал в Филармонии, исполняя произведения Скарлатти и Мессиана, двух таких разных композиторов начала XVIII и середины XX века, но в которых он углядел общность, позволившую ему создавать оригинальные композиции из их сочинений. Володя ценил Угорского потому, что тот был, во-первых, ещё и клавесинистом, а во-вторых, исполнителем некоторых произведений володиного учителя Владимира Ивановича Цытовича.
Год 1985-й, февраль
Шахматы и Нейгауз 15 февраля закончился в Москве более чем пятимесячный шахматный матч за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, начавшийся ещё 10 сентября. Матч, приковавший к себе внимание всего мира, тяжелейший, изнурительный для всех – и участников, и зрителей. Уж насколько мы с Володей были всегда далеки от шахматных дел, но и то волновались и ждали исхода поединка. А внятный исход по сути так и не наступил: Карпову не дали доиграть, и Каспаров автоматом был объявлен победителем "по новым правилам". Теперь-то, с высоты времени, мы понимаем, что эта борьба была символом того, как эпоха уходящая (которую в шахматах олицетворял Карпов – абсолютно лояльный к прежней брежневской власти и абсолютно надёжный поэтому для неё) медленно и тяжело уступала новой эпохе, во многом начавшей проявляться. Каспаров уже тогда был оппозиционером, и совсем немного оставалось ждать того времени, когда на улице советских диссидентов настанет праздник – они получат наконец возможность говорить что угодно и сколько угодно. Хорошо это или нет, до сих пор остаёся открытым вопросом. Помню, мы очень жалели, что Карпов тогда не остался чемпионом мира. Каспаров никогда не нравился мне своей самоуверенностью, да и просто по-человечески. С другой стороны, символичным было то, что первенство мира было отдано именно ему (возможно, несправедливо). К несчастью Карпова, все звёзды сошлись тогда на «юном Гарри», ставшем одним из символов новой эпохи. Борьба систем была настолько острой, что при встречах на матче оба великих шахматиста не подавали друг другу руки, как было всегда принято на чемпионатах. Меня это огорчало, и я рассказал Володе, как поразило меня окончание заменитого матча 1927 года на первенство мира, о котором я где-то читал, между кубинцем Хосе Раулем Капабланкой и нашим Александром Алехиным, точнее – насколько благородно завершил его Капабланка. Тот матч длился почти три месяца и тоже истощил игроков как физически, так и психологически. Капабланка, добродушный красавчик и любимец женщин, с 1916 по 1924 год не проигравший ни одной партии и пробывший несколько лет подряд чемпионом мира, неожиданно потерпел поражение от приехавшего из России шахматного гения. До последнего они шли практически вровень. А когда ещё непонятно было, чем закончится последняя 34-я партия, русский получил наутро от соперника такое письмо: «Дорогой господин Алехин! Я сдаю партию. Итак, Вы – чемпион мира! Примите мои поздравления с этим успехом и наилучшие пожелания. Поздравьте также от моего имени госпожу Алехину. Искренне Ваш, Х. Р. Капабланка». У него отнимают титул, дававший ему всё, а он так красиво себя ведёт, что нельзя не восхититься! Всё-таки не стоит видеть в этом письме только простую формальность. В связи с культурой отношений вспомнился мне и один эпизод из жизни музыкантов, от которого я тоже испытал потрясение и о котором тогда же рассказал Володе. Среди студентов Московской консерватории долго ходил рассказ, как в 1950-х годах два профессора, два выдающихся пианиста-преподавателя – Генрих Нейгуз и Александр Гольденвейзер – "громко разругались" прямо в коридоре на глазах у множества студентов на какую-то профессиональную тему. Что ж, людям нравится наблюдать и комментировать, а затем разносить повсюду такие истории. При моей всегдашней слабости к личности Нейгауза я попытался узнать об этом случае подробнее, и вот что выяснилось. Да, неуравновешенный, нервный и импульсивный Генрих Густавович вполне мог вспылить. Но, оказывается, после этого он послал Гольденвейзеру такую записку: "Дорогой Александр Борисович! Прости мне моё недавнее поведение. Лет 16-17 назад во мне что-то свихнулось – неизлечимая болезнь, личные невзгоды, смерть сына. Да, я люблю жизнь, но не себя в ней... у меня бывает стремление быть противным для людей, но я никогда не делал людям специально гадостей, хотя имел возможность возмущать их, как и Тебя... Может быть, Ты почувствуешь, что я заслуживаю скорее Твоего сострадания, чем гнева... Твой старый и несчастный коллега Генрих Нейгауз". На это Гольденвейзер ответил: "Дорогой Генрих Густавович! Твоё письмо глубоко, до слез взволновало меня. Спасибо Тебе за нравственное доверие, без которого Ты не написал бы мне так. Я Тебя люблю и высоко ценю Твой прекрасный талант и исключительную культуру. Я всегда стараюсь людей не осуждать, а за Тебя я всегда страдаю и глубоко Тебя жалею... Обнимаю Тебя как друга и от души желаю Тебе освободиться от тяжелого гнёта, который отравляет физически и морально твою жизнь. Твой очень старый друг А. Гольденвейзер. 10.01.1958". Вот этот свой восторг от того, насколько благородно в прошедшие времена – не то, что сегодня! – люди умели общаться даже в конфликтных ситуациях, я и попытался передать Володе. Услышав об этих двух случаях, он горько резюмировал: – М-да, культура общения у нас нынче утрачена. Старомодной стала!
Год 1985-й, март.
Зубры и «Горби» Мы с сестрой Светой нередко ездили на Карельский перешеек к питомнику зубробизонов в районе Токсово, где эти животные жили на участке леса целыми семьями, берущими начало от бизона Малыша и зубрихи Лиры, завезенных сюда в 1974 году. Продолжаем ездить и поныне, но теперь питомник пришёл в запустение, зубров остались единицы. А в 1980-е он процветал и пользовался популярностью, его постоянно навещали толпы людей, а зубров там жили десятки. 10 марта 1985-го мы взяли в очередную такую поездку «к зубрам» Свету Ветлову, Володю Радченкова и Серёжу Васильева. Идти надо было от железнодорожной станции несколько километров в сторону Рапполово. Кормили зубров хлебом, специально взяли с собой пару буханок. Зубры спокойно ели у нас с рук, как коровы. По дороге от питомника мы не могли не заглянуть в Ново-Кавголовский лесопарк с его Поляной сказок, избушкой Бабы Яги, резными деревянными скульптурами людей и зверей, и наконец, длинным и шатким навесным мостом над ручьём, впадающим в Охту. Володя по-детски восхищался всем увиденным. В тот же день, 10 марта, умер Константин Устинович Черненко, который пришёл к власти в нашей стране (вернее, его поставили против его воли на смену скончавшемуся Ю.В.Андропову) год и месяц тому назад, в феврале 1984-го. Тогда это стало разочарованием для Володи – он ведь возлагал на Андропова, как я говорил, серьёзные надежды. Но после кончины «Юрия Долгорукого» опять посадили на вершину человека из брежневского клана – значит, всё вернулось в прежнее русло! Ожидаемые перемены не состоялись. Мы словно окунулись в прошлое и жили так ещё больше года под властью престарелого Политбюро. Что до несчастного Черненко, то ещё при его жизни стали появляться анекдоты на тему его скорого неминуемого конца, который всем был ясен. И вновь по радио и с экранов телевизоров зазвучали такие привычные уже слова: «В эти скорбные дни весь советский народ ещё теснее сплотился вокруг коммунистической партии и её ленинского Центрального Комитета…», – и так далее. После смерти Черненко анекдоты эти и вовсе выделились в особую рубрику на тему «парада похорон», как стали называть то время. Рассказывали их тогда ещё, понятное дело, только на ушко: Брежнев встречает на том свете Андропова: – Ну что, выпьем за встречу? – Давай уж третьего подождем! Диктор телевидения сообщает: – Товарищи! Вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжёлая утрата... Человек пытается пройти к Красной площади на похороны Черненко. У него спрашивают: – Пропуск есть? – А у меня абонемент! Радиокомментатор на похоронах Черненко: – Всё Политбюро в полном составе идет к могиле! С приходом же к власти на другой день сравнительно молодого Горбачёва (ставить у руля страны очередного престарелого члена Политбюро было бы уже просто смешно) у нас вновь возобновились надежды на полное изменение жизни. Оно и пришло через несколько лет, однако совсем не такое, увы, какого ждали… Мы, с нашим молодым задором готовые перевернуть существующую Вселенную и построить на её месте новую, справедливую и гармоничную, влетели с ходу в зверино-капиталистические отношения начала девяностых, в джунглиевые условия выживания, провоцирующие разрушать себя и терять человеческое лицо. Всех нас хорошенько побила судьба. Некоторые не сумели пережить то тяжкое время или хотя бы остаться собой. Но тогда, весной 1985-го, почти всем нравился наш новый генсек (это слово из лексикона «вражьих голосов» только-только вошло в моду и стало почти официальным и у нас), его имя связывали великими переменами. Говорили: раз уж он агроном по образованию и вышел из сельского хозяйства – значит, поднимет наши деревни. Давно пора! Володя тоже вновь воспрял и тоже подпал под мнимое обаяние «Горби», как он его называл (и словечко-имя это – вот где свобода-то! – уже можно было произносить вслух, не посадят). Мы часто говорили с ним на эту тему. Ещё бы! – после тех, кто правил нами раньше, «Мыхал-Серхеич», первый и последний президент СССР, поначалу произвёл впечатление яркого и энергичного реформатора, который действительно желает всех благ стране и непременно их даст всем нам. Подкупало и то, что он читал свои речи не по бумажке и не шамкая, а бодро и от себя (пусть и с отталкивающим многих провинциальным выговором). Говорил он по телевидению и радио красиво и подолгу, и говорил довольно сильные вещи, от которых мы просто млели. Володя, как и я, заслушивался этими речами и ждал от «Горби» много нового. Вспоминаю, как ему понравилось выражение новоявленного генсека о том, что надо «побольше развивать маленькие такие дóмиковые огородики». Володя этому последнему словосочетанию открыто умилялся! Тогда я сказал, что уж очень много этот человек говорит, а надо дело делать, это во-первых. А во-вторых, говорит часто ещё и безграмотно. На это Володя возразил: – Ничего, пусть говорит хоть так! Лучше уж говорить о «дóмиковых огородиках», нежели о «чувстве… кхм… глубо-кого удо-вле-творения», – тут он спародировал Брежнева. Тогда это было в моде, шамкающую речь «дорогого Леонида Ильича» с удовольствием изображали все, кому не лень (в том числе и наш друг Саша Харьковский). Потом уж, через десятилетия, мы поняли, что Брежнев из всех советских руководителей был наиболее порядочным (уж не знаю, брать ли это слово в кавычки, или оно в принципе не применимо к главам государств и к политике). Сейчас заметно набирает силу ностальгия по спокойным временам пресловутого «застоя» 1970-х. Но тогда жажда ломки старого у нас была очень мощной! На ней-то умело и сыграли те, «кому надо».
Год 1985-й, март же.
Шлиссельбург Одна из наших поездок мне хорошо запомнилась. Почему-то именно эта из многих – в конце марта 1985-го, в воскресенье 24-го числа. Ещё повсюду лежал снег, особенно за городом, куда мы и отправились вдвоём воскресным утром. И опять просто так, без всякого повода! Захотелось снова «общнуться». Встретились на Финляндском вокзале и стали думать, куда бы махнуть. Определились с маршрутом в последний момент: ближайшая электричка шла в Невскую Дубровку. Мы сели в вагон и за полтора часа доехали до станции Петрокрепость в посёлке имени Морозова. Там и сошли с поезда, который отправился дальше, в Дубровку. В то время я почти не знал Ленинградской области, тем более её восточных районов. Но мне было всё равно, где общаться, нам в любом месте было интересно вдвоём. Прошли через посёлок Шереметьевка до берега Невы – туда, где она берёт начало, то есть вытекает из Ладожского озера. На другом берегу через Неву ясно видели Шлиссельбург. А слева виднелась в тумане знаменитая крепость Орешек на Ореховом острове. Мы очень хотели её посетить, раз уж добрались досюда. Но до крепости было не доплыть – невская навигация была закрыта до начала мая. Тогда мы просто пошли бродить вдоль Невы и набрели на стоянку каких-то больших речных судов, пришвартованных к берегу. Володя ко всему подобному проявлял повышенный интерес, поэтому с азартом принялся осматривать их и даже перелез через борт, чтобы походить внутри. Хоть я и был полным профаном в корабельной области, но тоже последовал за ним. Никого поблизости не было. Три грузовых судна (а может быть, и больше) стояли бок о бок, поэтому нам не составило труда переходить по трапу с одного корабля на другой. Так мы обошли их все. На одном «борту» устроили обед с термосом и бутербродами. Пока питались, Володя рассказывал: – Нева река молодая, ей всего-то четыре тысячи лет. И сравнительно короткая, 74 километра, да ещё почти половина её протекает через Питер. Кстати, это единственная река, которая вытекает из Ладожского озера, как и река Ангара из Байкала. Все остальные в него впадают. – Какие, например? – Волхов, Свирь, Сясь, Назия, Вуокса, – принялся он перечислять, не задумываясь. – Это из крупных, есть ещё и мелких десятки. Кстати, Нева и Свирь – по сути одна река. – Это как? – с удивлением спросил я. – По руслу установили. Его следы остались в Ладоге, на дне, оно обе реки соединяет. А Ладога наша – это вообще по сути не озеро, а море! По многим параметрам. На нём и бури бывают. Вообще Ладожское озеро считается самым крупным в России после Байкала! Наконец появился местный мужичок. Увидев нас с суши, он предложил перевезти нас на своём катерочке за бутылку пива на другой берег Невы. Мы с радостью ухватились за это предложение, даже не подумав, как будем потом добираться обратно до станции. Таким образом мы переправились на левый берег, в Шлиссельбург. Посмотрели его каналы и шлюзы, Петровский мост, Благовещенский собор и Никольскую церковь, судоремонтный завод. И решили не возвращаться к Неве, а топать вдоль берега по шоссе в сторону Кировска – авось получится подсесть потом на какой-нибудь автобус до города. Километров через семь дошли до Ладожского моста через Неву. Со стороны реки донеслись до нас звуки симфонии Моцарта. Оказалось – это из будки охранника на мосту, отчего Володя чуть не размяк. Во всяком случае, мы приняли это за знак и решили пересечь Неву в обратном направлении, на этот раз по мосту – единственному мосту через Неву во всей Ленинградской области. Очутившись вновь на правом берегу Невы, мы так и продолжали топать по Мурманскому шоссе. И топали много часов, пока не стемнело! Шли и вновь говорили обо всём на свете. О найденных на дне Невы остатках старинных кораблей, о стихах поэтов «Серебряного века», о разных типах кинокамер, о кантате «Кармина Бурана» Карла Орфа, и конечно, вновь о случившейся две недели назад смене власти в стране. Мы всё надеялись набрести на какой-нибудь достойный населенный пункт, из которого ходил бы автобус в город. Но шоссе тянулось и тянулось. Нас обгоняли в основном гружёные фуры, казенных машин и личных автомобилей было немного – воскресенье всё-таки, а до начала дачного сезона ещё далеко. Уже в темноте пришли в деревню Разметелево, через которую проходит шоссе между посёлками Колтуши и Мяглово, пересекающее «наше» Мурманское. Там дождались последнего автобуса на Ленинград и уже на нём доехали до Большеохтинского моста, возле которого и расстались – «усталые, но довольные», как говорится в школьных сочинениях. Когда отец Володи Михаил Егорович узнал потом, что мы прошли пешком от Шлиссельбурга до Разметелево, он был в ужасе – уж он-то, как водитель, прекрасно знал эти расстояния! Действительно, в общей сложности мы протопали в тот день не меньше тридцати километров.
Год 1985-й, апрель
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
"Самонадеятельность"
Год 1985-й, май
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Житинский и Гессе
Год 1985-й, июнь
Опера А теперь расскажу о своём самом сильном впечатлении, касающемся нашей с Володей дружбы. Это произошло 24 июня 1985 года. В тот день, который навсегда врезался в мою память, у себя дома он сыграл мне на фортепиано целиком (и по возможности даже напел кое-как) свою только что написанную оперу «Рассказ на могиле» по повести Н.С.Лескова «Тупейный художник». Это произведение он собирался в ближайшее время показать своему мэтру – Борису Ивановичу Тищенко, и нужно было его "обыграть". Мы были в квартире вдвоём. Из открытого окна на последнем 9-м этаже открывался вид на буйную зелень тополей и берёз. Я знал, что Володя почти никогда не приглашает к себе домой друзей, только в исключительных случаях. В первый и последний раз (на сегодня) я был допущен тогда в эту святую святых – его рабочий кабинет. На столе, за которым он писал свои музыкальные сочинения, лежал интересный инструмент с металлическим валиком для разлиновывания на такты партитурной бумаги, столь дефицитной в то время. – Изобретение Стравинского! – с гордостью сказал Володя. В углу комнаты висел портрет маленького Володи – вероятно, его поместила туда его мама Ксения Николаевна. Уже в этом детском лице виделась недетская серьёзность и содержательность, а острый взгляд умных глаз был таким же, как и сейчас. Название «Рассказ на могиле» Володя дал своей опере, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть её драматический сюжет (у автора повести эти слова вынесены в подзаголовок). Кстати, художественный фильм, снятый по этому литературному произведению Ильёй Авербахом в 1971 году, называется «Драма из старинной жизни». Не помню, что было до и после исполнения оперы. Возможно, мы пили чай или просто беседовали о чём-то. Помню только ясно, насколько потрясло меня это долгое – более часа – священнодействие, когда Володя уселся за фортепиано и принялся исполнять увертюру, а затем на воображаемой сцене один за другим возникали герои этого произведения, ярко характеризуемые музыкой. Тут были пронзительно-лирические монологи Любови Онисимовны, героически-непреклонные арии Аркадия и агрессивно-маршевая поступь графа Каменского… Образы эти чередовались, переплетались и разлучались, а музыкальные интермедии словно сочувствовали главным героям, их трагической судьбе. И наконец, когда затихли последние такты музыки, в мёртвой тишине прозвучала заключительная фраза рассказчика: «Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал». До сих пор звучит во мне володиным голосом это предложение, произнесённое горестно и проникновенно. – Ну как? – спросил меня композитор, когда всё окончилось, и он, совершенно изнурённый и опустошённый, в изнеможении откинулся на спинку стула после минутной паузы. – Потрясающе! – я не мог сразу ответить и молчал. Потом сказал только: – Образы все очень выпуклые, запоминающиеся! И лейтмотивы их тоже. Похоже, Володя был слегка разочарован моей краткостью, но я действительно никак не мог почему-то подобрать тогда нужные слова. И чтобы совсем уж не молчать, добавил: – Хорошо бы пригласить потом Серёжу, чтобы он тоже послушал твоё исполнение. – Ну что ты, второй раз я такое не выдержу! – признался Володя. И тут только я понял, чего стоило ему это исполнение. Он просто выплеснул за этот час большой кусок себя. Чтобы потом долго восстанавливать оставшееся.
Год 1985-й, июль
Крым, Малоречка В начале лета моя мама неожиданно для меня согласилась – не помню уже, чья это идея была изначально – пригласить Володю пожить с нами у Чёрного моря. Весь июнь шли переговоры на уровне нас и наших родителей. Ездить в отпуск в Крым «дикарями» с палаткой наша семья начала чуть не с самого моего рождения (впервые я так жил уже в полугодовом возрасте), это было для всех нас обычным делом. А вот за Володю я волновался – осилит ли? Ведь я привык видеть его в цивильной обстановке: в концертных залах, в гостях, в консерватории. И хотя мы любили с Володей выезжать за город, все наши вылазки были однодневными, то есть мы не лишались надолго привычного городского комфорта, хотя и проходили многие километры. С 1975 года, то есть в последние десять лет мы, семья Строковых, ездили на постоянное место за Алуштой, укрепляясь на крутом склоне под автостоянкой между Малореченским и Солнечногорском. Там был у нас любимый пятачок на склоне горы над берегом моря. На этом пятачке едва помещалась палатка, разве что оставалось место для установки маленького примуса возле входа. Решили, что приедет Володя уже прямо туда, на место, примерно через месяц после начала нашего "дикарского" проживания на берегу. Во-первых, с нами вместе он поехать не мог из-за выпускных экзаменов. Во-вторых, сначала нас проживало в палатке целых четверо. Но в конце июля кончился отпуск у папы и сестры, и они "отчалили" в Ленинград. И только тогда Володя смог тронуться в дальний путь. Но как ему найти наш бивуак? Берег дикий, длинный, палаток много, никакого ясного ориентира не придумать. В конце концов я изобрёл выход, живя уже у моря. Купил в киоске за три копейки открытку с видом местного берега, написал на ней очередное послание к Володе, а то местечко под кустом на горе, где стоит наша палатка, проткнул на открытке иголкой, чтобы оно было видно напросвет, зная володино острое зрение в таких «близоруких» делах. По этой дырочке он и нашёл нас, то есть меня с мамой. В одно прекрасное июльское утро за брезентовой стенкой мы услышали знакомый голос: - Эй, хозяева, принимайте земляка! Встреча была бурной и радостной, но почти сразу наступила рутина пляжных дней. Будучи натурой деятельной и подвижной, стремясь постоянно ходить, ездить, путешествовать, Володя был удручён моей инертностью, нежеланием никуда двигаться с пляжа. Он не выдерживал долгого сидения под тентом из простыни, хотя мы и пытались как-то скрасить его, часами играя «в слова» на бумаге (та игра, когда каждый должен отгадать задуманное партнером слово из шести букв, подбирая к нему другие слова, по количеству общих букв). В итоге Володя на пару дней оставил нас и в одиночку съездил в Бахчисарай, посетив пещерный город Чуфут-Кале, а затем в Евпаторию – навестить знакомых. Вернувшись, он написал нашему другу Сергею письмо, в котором жаловался на меня:
Володя имеет в виду мою «повесть», которую я писал на море и частями отсылал Сергею в нескольких письмах по ходу её написания. По сути это было просто большое письмо страниц на 50, где я с литературными изысками и с претензией на юмор пытался рассказать о совершённой двумя неделями раньше поездке. Мы вдвоём с отцом (он уехал с моря вместе с моей сестрой Светой по случаю окончания их отпуска за несколько дней до прибытия Володи) поехали под Ялту навестить моих троюродных сестёр – Анну и Валерию Румянцевых, которые жили тогда при доме творчества «Актёр» от ВТО (Всероссийского театрального общества) для Народных артистов. Долго и интересно мы разыскивали их, затем прекрасно провели несколько часов в их обществе, а на обратном нашем пути разыгралась буря. Морской транспорт отменили, и мы застряли на ночь в Алуште, поскольку уехать поверху было невозможно: автобусы уже не ходили, а каждую проезжающую по узкой извилистой трассе машину толпа жаждущих уехать буквально рвала на части. В итоге под утро нас обоих, заночевавших в парке на скамейке, подобрали местные милиционеры и отвезли в отделение, где продержали с час. Пришлось дожидаться Пришлось дожидаться рейсового автобуса и возвращаться из Алушты ранним утром уже на нём. Володя был первым читателем описания всех этих приключений и давателем отзывов, поэтому дальше в письме он сообщает:
(*Ниже в письме сноска: «Разумеется, поклёпствую и ёрничаю. Миша, если прочтёшь – не обижайся (прилагается для цензуры). Во-первых, и сам не прочь поваляться рядом; во-вторых, намеднись недурственно по горам походили – всё благодаря моему драгоценному другу"). В первый мой творческий акт родились сии (чисто, разумеется, субъективные) портреты крымских городов, какие немедленно тебе и отсылаю». К письму прилагались на двух последних страницах остроумные зарисовки: образы крымских городов в виде портретов, какими увидел их Володя. Тут и чопорная Алупка в образе тощей пожилой дамы с зонтиком на плече, и одетый с иголочки важный чиновник-Симферополь, и крикливая тётка Феодосия, и старая дева Ялта, и матросик-пропойца Судак, и бесстыдно загорающая в бикини Алушта с большим мороженым в руке, и фрайер-пижон Гурзуф, и «работяга»-Керчь с татуировкой на плече: «Всё пропью, а флот не опозорю!»…
Год 1985-й, июль же
Пища духовная и земная Часто, сидя в палатке вечерами или в дождь, мы слушали мой радиоприёмник «Океан» – большой и тяжёлый, в деревянном корпусе, который тем не менее я не ленился повсюду таскать с собой. Высоты нашей четырёхместной палатки едва хватало для его выдвижной антенны. Зато на берегу Чёрного моря (то есть на границе Советского Союза) неплохо ловились «Голос Америки», «Немецкая волна», «Радио Свобода» и такое знакомое «Би-би-си». Передачи этих радиостанций, вещавших на СССР, тогда ещё часто глушились нашими недремлющими органами (сеть радиоглушения, работавшая под бдительным руководством КГБ, прекратила свою деятельность в 1988 году), и вообще «ловля вражьих голосов» считалась едва ли не запрещённым актом – во всяком случае, можно было серьёзно пострадать, если об этом узнают «там». Но несмотря на это, мы всё-таки с интересом слушали рассказы о наших «невозвращенцах» (и интервью с ними) – о музыкантах Максиме Шостаковиче, Виктории Мулловой, Мстиславе Ростроповиче, Елизавете Леонской и Юрии Егорове (последние два – пианисты), о мастерах балета Рудольфе Нурееве, Наталье Макаровой и Михаиле Барышникове, об актёре Олеге Видове и режиссёре Андрее Тарковском. Имена всех этих людей упорно замалчивались у нас после их «бегства в капитализм», а узнать об их творческой судьбе очень хотелось, поэтому заграничные голоса являлись для нас источником интереснейшей информации. Иногда, правда, отталкивало то, как эта информация подавалась. Ведь в странах запада такие беженцы были на вес золота – их использовали в первую очередь для того, чтобы опорочить нашу страну. И в этой связи вспоминаются слова молодого Пушкина в письме к Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». Конечно, не только эти одиозные "голоса" слушали мы, но и наши родные, особенно если там передавали хорошую музыку. На черноморском побережье достаточно качественно ловились и другие радиостанции, чего не наблюдалось у нас в Ленинграде. Мы прослушали таким образом 9-ю и 10-ю симфонии Шостаковича (с Мравинским!), симфоническую картину «Иванова ночь на Лысой горе» Мусоргского и концерты Баха с Евгением Кисиным, тогда ещё 13-летним. Причём по серьёзным критическим замечаниям Володи по поводу исполнения каденций было видно, насколько досконально он знает эту музыку. Так мы питались на берегу моря духовно. А вот вопрос обычной кормёжки был взвален на мою маму, которая часами просиживала на корточках возле примуса у входа в палатку. Мыла и чистила овощи, кипятила воду в кастрюльке для каши, макарон, супа и чая. И всё равно наши с Володей молодые желудки требовали большего! Особенно его. Понятное дело, Володя никак не мог удовлетвориться утренним салатом из помидоров и огурцов, и иногда мы наблюдали, как он украдкой карабкается на крутую гору над нами, скрываемый редкими кустами, чтобы посетить "Блинную" – так называлась столовая, где можно было разжиться очень вкусными пышками или блинами, а также свежим молоком. И хотя мама не желала от нас помощи и предпочитала всё делать сама (мы, мальчики, разве что совершали иногда походы по магазинам за продуктами в Малореченское или Солнечногорское), не знаю, как бы она справлялась, если б к нам приехал тогда ещё и Сергей, чего мы оба очень желали. Но он не мог этого сделать из-за того, что проходил тогда педагогическую практику в Ленинградской области, в Каннельярви. Тем не менее, Володя признаётся Сергею в письме:
Мог бы описать в литературной форме моё восхождение к пещерному городу Чуфут-Кале (Па-де-Кале), но – слог не тот. Опишу живописно. (Внизу подо мной Бахчисарай. Орёл меня так и не укусил...)». Рядом нарисован шарж на самого себя, забравшегося на скалы, в виде отца Фёдора из «Двенадцати стульев». Июль 1985-го, письмо из Крыма от Володи Сергею от 24 июля 1985 года с автошаржем и портретами крымских городов.
Год 1985-й, всё ещё июль
«Новая Одиссея» Володя действительно уехал в самом конце июля к «знойной феодосийской даме» (она же – «милая девушка» и «адмиральская дочь»). Я пошёл провожать его, дабы подсадить в автобус, шедший из Алушты через Малореченское далее на восточное побережье, но автобус оказался проворнее нас и успел уже отчалить. Тогда пошли на пристань, где Володе удалось вспрыгнуть на теплоход, шедший до Рыбачьего, то есть всего лишь до следующего пункта (иногда мы «прошвыривались» в Рыбачье пешком – минут 50 по извилистой трассе). Далее он рассчитывал на "Комету" до Феодосии, которая в Малореченском не останавливалась. На неопределённое время мы расстались; предполагалось, что если всё у него сложится удачно, то и я навещу его в Феодосии, а там уж мы обследуем и Керчь, и саму Феодосию, и Судак с его знаменитой Генуэзской крепостью. Отсюда, из-под Алушты, казалось, что все эти города крымского Востока находятся близко от друга, и нам хватит на них двух-трёх дней (какая наивность!). Он обещал сразу по приезде написать мне (письма получались возле конторы автостоянки в Солнечногорском – их просто вываливали по утрам в специальный ящик, и каждый выбирал адресованные ему). В дорогу мой друг взял с собой случайно оказавшуюся у меня поэму «Энеида» украинского писателя Ивана Петровича Котляревского, на украинском же языке, выуженную мной из глубин бабушкиной симферопольской библиотеки и прихваченную на море. Меня-то можно понять, у меня украинские корни по бабушке, но вот уж чего я совсем не ожидал, так это того, что Володя страстно увлечётся этой книгой, будет жадно и восхищённо вчитываться в неё запоем и цитировать отрывки из этой поэмы как изустно, так и письменно. Вот что писал он в том же письме Сергею от 24 июля 1985 года (предварив письмо эпиграфом из этой книги): «”Энеида” Котляревского – кладезь эпиграфов! Гоголь это идеально чувствовал. Да и сама по себе – вещь настолько занятная (родная сестра пушкинской «Гавриилидады»)… Рекомендую ознакомиться, языковой барьер – не помеха!» Из Феодосии Володя действительно отослал мне объёмное письмо на листах большого формата (и где откопал таковые?) – с подробным описанием своего путешествия туда. Письмо, снабжённое иллюстрациями, блещущее юмором, эрудицией и многочисленными цитатами и эпиграфами. Итак, вот оно, с рисунками автора. * * *
«Извини, дружище, что не поторопился взяться за стилос, приехав в Феодосию (Кафу) – собрал(ся) с мыслию (по древу) лишь на второй день моего там пребывания. Извини также за качество бумаги – другой у меня под рукой нет. Сколь пробуду я в сём знойном городе – пока сказать не смогу: если что – по отъезде позвоню. Хочу попытаться описать тебе по возможности в литературной форме мои скитания на пути обретения мною берега Феодосийского залива. Не суди строго. Итак, «прости царапы моего пера»… (из Вознесенского – М.С.) Сочтёшь нужным переслать Сергею на ознакомление со своим предисловием – будь ласков, “all His copyright”. Новая Одиссея
"Зо всім зібрався і уклався, І, скілько видно, почухрав. Плив-плив, плив-плив, що аж обридло, І море так йому огидло, Що бісом на його дививсь". (Котляревськiй «Енеїда») "Мой бедный матрос, Твой корбалик утоп…" (Б.Гребенщиков «Белый треугольник») I
Неприятность, коей сопровождался мой от'езд из города-героя Малореченского, столько мало меня огорчившая – уход автобуса – была, как оказалось, намного существеннее, чем мне казалось. В радужных чувствах, омрачённых лишь горечью временного расставания с тобой и с «уголком земли, где я провёл…», я взошёл на палубу «Леонида Соболева». Прекрасные мореходные качества этого судна были мной отмечены ещё в прошлом году. Сидя у распахнутого окна, наслаждаясь солнцем, брызгами, игрой волн и дельфинов, я было подумал: «Вот так бы до самого Судака…» О боги! – я ещё не подозревал, что меня ждёт! – если бы «Соболев» и вправду шёл на Судак! Ах, если бы!.. Ничего не подозревая, я сошёл в Рыбачьем, и тут – первый бэмс! Огромная вывеска в окне касс вещала всему свету, что «Комета» из Севастополя не вышла! Тихо ойкнув, я рухнул на сумку. До прихода прямого теплохода оставалось целых полтора часа… Потом, бродя по Рыбачьему, я замечал, что всё, что ни попадало мне на глаза, вело себя так же, как севастопольская «Комета». В универмаге в каталоге грампластинок значилась пластинка Николая Левиновского (джазовый композитор и пианист – М.С.) – почём зря! – её там не было! Квас в бочке иссяк перед моим появлением. Солнце сигануло за тучу, едва я подошёл к морю. Наконец, сначала вдали, а потом всё ближе и ближе к причалу подошёл теплоход «Николай Станюкевич», я взошёл на его борт – и тут же ещё раз оценил ушедшего в Симеиз «Соболева». «Станюкевич» имел устройство с ярко выраженным креном вправо, так что с левого борта моря было практически не видно, а с правого же не составляло труда выпасть. Два дизеля надрывались вразнобой; как выразился некогда Андрей Платонов, «будто чёрт на Афон лезет». Около меня немедленно поместилось почтенное еврейское семейство. «Можно около вас?» – спросил мягким, заискивающим голосом его глава. Я не протестовал. «Тогда – окно закрыть!» – командным голосом рявкнула дородная «шея». Я развёл руками – закрывайтесь, дескать, сами. Они закрыли, сели подле меня, изрядно меня сжав, и начали стрекотать за рыночные цены в Гурзуфе, Алуште, Рыбачьем и Судаке, причём их дитё проявляло в оном вопросе недетскую осведомлённость. Я ушёл от такого соседства на корму. Но там оказалось не лучше. На корме бесновалась орава эстонцев. Один из них, вспрыгнув чуть не на уши мне и тыча мне в лицо то футляр от своего «Зенита», то зад, снимал всё время (ах, как я хотел выкинуть его в море!). Призвав его к порядку (чем он был изумлён до глубины своей угро-финской души, в результате чего ушёл на корму и кочумал до самого Судака), я уютно устроился на левом борту (сидеть на правом, повторюсь, было небезопасно) и стал чередовать созерцание берега (до Морского очень уныло, после – скалы начали принимать какие-то замысловатые формы) с чтением Котляревского.  Мелькнул какой-то город в ущелье меж скал. Судак? Но нет, это был Новый Свет. Потом весь пароход начал ни к селу, ни к городу поминать Шаляпина (оказывается, к тому, что он где-то жил тут поблизости). Наконец море внезапно перегородила пристань, такая длинная, что к ней при желании могла встать десять «Станюкевичей». «Станюкевич» рявкнул тифоном и пристал.
Мелькнул какой-то город в ущелье меж скал. Судак? Но нет, это был Новый Свет. Потом весь пароход начал ни к селу, ни к городу поминать Шаляпина (оказывается, к тому, что он где-то жил тут поблизости). Наконец море внезапно перегородила пристань, такая длинная, что к ней при желании могла встать десять «Станюкевичей». «Станюкевич» рявкнул тифоном и пристал.
Я воспринял конец пути тем более неожиданно, что на горе появилась Генуэзская крепость, а у моего угрюмого соседа с рубахой, расписанной по-литовски, оказалась подзорная труба; среагировал я лишь потому, что «Станюкевич» со всего маху вляпнулся в стенку, и «плезирная трубка» чуть не выпала у меня из рук за борт. Переход «Малореченское – Судак» был завершён. Я сошёл на берег, не одобряя тот факт, что до ближайшего теплохода на Феодосию оставалось более 2-х часов, и, в надежде попытать счастье на автовокзале, пошёл в гор… II
Электростанции не было. (И.Ильф, Е.Петров «Золотой телёнок»)* * Прим.редактора. Иные эпиграфы, цитированные по памяти, могут не блистать точностью. С подлинником не вполне верно – человек с печенью. Miles pardones! Ради всего святого! Где же город? За морским вокзалом высилось монументальное здание блинной (блинов там не было, одна очередь), а за ним – в лучшем случае, какая-нибудь станица Замайданная… Плетни, мазанки, мальвы… Что же: перекрестясь – вперёд! На поиски города! Обогнул какую-то одинокую скалу. Там обнаружил всего лишь ларёк с каким-то ядовито-зелёного цвета мороженым. Решил попробовать. Мороженое было, как мне объяснили, лимонное, однако до вечера, до арбуза, разрезанного – извини, я преувеличил чин – капитаном I ранга (т.е. полковником) Р.Л.Шофманом, у меня во рту стоял устойчивый привкус керосина… За будкой обнаружился ещё один переулок, в конце которого помещалась остановка автобуса. Мой до неё путь омрачал некий субъект, подлепившийся ко мне и иезуитски допрашивавший меня о местонахождении судакского почтамта, бани etc. (о том, что я не знаю города, до него дошло раза с десятого). На остановке было несколько человек. Раза три я проговорил, потом прокричал, затем проревел фразу: «Будьте добры, скажите, идёт ли этот автобус на автовокзал?» – хоть бы один колыхнулся! Тут же в меня вкляпался давешний субъект, предлагая мне пройтись по городу, не дожидаясь автобуса, дабы осмотреться. Я на это сказал ему: «С удовольствием, если вы возьмёте мою сумку». Субъект к моей несказанной радости ответил на это своим немедленным исчезновением.  Подошёл автобус. Чего-либо более нелепого на пассажирских линиях я в жизнь не видел, разве что старые «Курганы» с передком торчком и дверьми, открываемыми рычагом сбоку, на улицах Очамчиры. «Луноход» был весь в пробоинах, точно ходил под огнём, а двери в нём не закрывались вовсе! Естественно, дальше отверстой двери меня (с сумкой) не пропустили. Я взялся было за поручень, но – этого я не мог предвидеть! – чуть было не покинул вместе с поручнем пределов машины.
Подошёл автобус. Чего-либо более нелепого на пассажирских линиях я в жизнь не видел, разве что старые «Курганы» с передком торчком и дверьми, открываемыми рычагом сбоку, на улицах Очамчиры. «Луноход» был весь в пробоинах, точно ходил под огнём, а двери в нём не закрывались вовсе! Естественно, дальше отверстой двери меня (с сумкой) не пропустили. Я взялся было за поручень, но – этого я не мог предвидеть! – чуть было не покинул вместе с поручнем пределов машины.
Держался всю дорогу то за дверь, то за кондукторшу, вероятно, такую же тупую, как эта дверь, ибо она как будто бы и не замечала меня… Так я въехал на автовокзал, где узнал, что на Феодосию все билеты уже проданы. Чуть было не сговорился с хозяином старинного гестаповского вида трофейного «Вартбурга», но тот в последний момент сообразил, что едет вообще-то в Симферополь (т.е. в другую сторону). Так что я вынужден был повернуться und leer zurück gehen, по пути осматривая Судак. Ну, я тебе скажу! В палисадниках колючая проволока! В магазинах – все двери на запоре, перерыв там никак часа четыре, работают меньше! На улицах – машины, по большей части милицейские, причём цвета хаки (!), в которых вооружённые (!) фараоны; серия унылых домов разнообразится только рекламами водки (постановление сюда ещё не дошло). (Началу антиалкогольной кампании положило вышедшее 7 мая 1985 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» – М.С.). Вот общая картина Судака. Люди там – форменные судаки! Слово из него выжать – дело нереальное, разумеется, если речь идёт не о матерщине или не о каких-нибудь гадостях в адрес собеседника. Более нигде я не наблюдал человека, который, стоя у ворот собственного дома или сидя в автобусе, просто, как пустобрехливая собака, говорил бы гадости в адрес всех, кого бы ни видел! К тому же – нигде ещё, ни на Крымском полуострове, ни в РСФСР (исключая Анапу) не слышал я такой высокой концентрации мата! К тому же жара, привкус керосинового мороженого во рту, мухи и комары (а этого добра тут прямо навалом) – всё это создавало колорит адский.  Как вдруг – моё внимание привлекла огромная реклама павильона – с надписью: «ПРОХЛАДА»! Я рванулся на эту прохладу, машинально схватил стакан, опустил гривенник… и моему изумлённому взору предстало вливающееся в стакан пиво! Как жестоко меня надули! Правда, пиво было совершенно ледяное, я им очень приятно освежился и отбил на некоторое время изо рта запах и вкус керосина. До морвокзала дальше шёл бодрым шагом и чувствовал себя неплохо.
Как вдруг – моё внимание привлекла огромная реклама павильона – с надписью: «ПРОХЛАДА»! Я рванулся на эту прохладу, машинально схватил стакан, опустил гривенник… и моему изумлённому взору предстало вливающееся в стакан пиво! Как жестоко меня надули! Правда, пиво было совершенно ледяное, я им очень приятно освежился и отбил на некоторое время изо рта запах и вкус керосина. До морвокзала дальше шёл бодрым шагом и чувствовал себя неплохо.
Кстати, видел презанятного фотографа. Оригинальность его заключалась в том, что сей милый старик въехал на пляж со своим «Каноном» на маленьком смешном «Опеле» выпуска 1915 года! Машина идеально чухала своим ходом (двигатель, увы, заменный, от мотороллера) и имела такой забавный вид, что в ней охотно фотографировались на фоне моря или Генуэзской крепости – на выбор. Спросил у фотографа цену машины и получил ответ: «Ну, знаете ли, друзей не продаём, а тем более кормильцев». За фотографии он драл по-божески, по синей за две-три, качество их было отменным. III
(Ги де Мопассан «Милый друг») Як ось і море стало грати, Великі хвилі піднялись, І вітри зачали бурхати, Аж човни на морі тряслись. (И.Котляревський. «Енеiда») Негров, малайцев И прочий народ В море качает Другой пароход. Неграм, малайцам Мокро и жарко. Брызжет волна, И чадит кочегарка. (С.Маршак «Мистер Твистер») На подходе к причалу я почуял странную ломоту в ногах и крен вправо (где была сумка). Взглянув на башню Генуэзской крепости, я вместо одной обнаружил две! Мне всё стало понятно: я забалдел! К счастью, продолжалось это опьянение лишь пару минут, и я даже не опоздал к рейсу. К берегу, странно кривляясь, чвалала двухсотместная драная посудина за именем «Коктебель», порт приписки – Феодосия. Чвалала, переваливаясь с борта на борт, странно вихляя из стороны в сторону кормой и то зарываясь, то вскидывая носом. Вид её – протяни «Тавриду» или «А.Грина» сквозь игольное ушко – и ты получишь «Коктебель». С тяжким вздохом я взошёл на его борт… Во-первых, тут же выяснилось, что несчастные полсотни вёрст эта посудина собирается тюхать три с половиной часа! Далее: сесть было положительно некуда! Места в носовой части салона были засижены белой костью – экскурсантами. В хвосте же отовсюду дуло, воняло невесть чем, трясло, как в цыганской телеге. А хляби небесные делали невозможным путешествие на корме…. Словом, после долгих дрязг «Коктебель» отплыл. По тому, как он шёл, стоило переименовать его из «Коктебеля» в «Коктеблюй». Этому крайне способствовала погода. Ветер натворил по всему морю противной мелкой зыби, и корабль шёл, как по щебёнке. Я было попытался уснуть, но висевший прямо у меня над головой «матюгальник» вдруг разверзся оглушительной песней на благословенном языке Петрарки и Муссолини. Мне очень хотелось оторвать динамик, швырнуть его в воду, а потом срастить оставшиеся концы, чтобы и магнитофон перегорел. В довершение всех зол мне порвали штаны – на этот раз с другого боку… Переодевшись в смрадном WC, я всё же умудрился уснуть. К счастью, мой сон прерывался лишь дважды. Первый раз – когда какой-то младенец, влезши ко мне на руки, стал что есть силы дуть мне в глаза – бедняга был так разочарован тем, что я оказался не его папой! Второй – естественным путём, от приступа тошноты к горлу. Тут я уже обнаружил, что салон забит вмёртвую, как трамвай в час «пик» (промозглый ветер, брызги погнали народ с кормы, а по ходу на промежуточных станциях народ подсаживался по-страшному). Пароход осел настолько, что вода плескалась где-то совсем под ногами, у стёкол, периодически вливаясь в салон через двери. Кричали дети, в носовом отсеке (мне, может, это и снилось) выла собака, ей вторил ветер, жахал гром, короче – весело! Я понял, что минут этак через 15 такого пути я буду нуждаться в сером самолётном мешочке. Я замёрз, як цуцик, чихал, кашлял навзрыд, оттирал некстати просившуюся из носу кровь – короче, стиснув зубы, ждал конца… Но тут машина теплохода, взвыв на самой отчаянной ноте, вдруг смолкла…. Что это? Конец пути? Если да – то какой?! Взглянув в окно, я увидел нависший над нашей посудиной нос здоровенного противолодочного корабля. Поодаль из воды торчало немного подводной лодки (здоровая, зараза, атомная)… Ужасть! Чтой-то будет! Я полез в сумку за чистой рубахой… Двигатель «Коктебеля» потихоньку подгребал всё-таки задним ходом. Перегукиваясь с военными судами (вот тифон у «Коктебеля» хороший, громкий. Рявкнет – в салоне у всех пожилых людей делается предынфарктное состояние, а младенцев хватает родимец! Хоть тут-то в грязь лицом перед военно-морским флотом не ударили) «Коктебель» влез кормой в полосу тумана и пошёл уже совершенно как в молоке. А, собственно, шёл ли он вообще? Салон охватили лихорадочные споры: – Феодосия. – До Феодосии ещё полчаса ходу! По расписанию! – Батюшки! Тонем! – А что это за флот? Наш? Не турецкий? – Спокойно, товарищи, капитан своё дело знает! – Да нет! Это определённо Феодосия! – Да чтоб я так жил, как это не Сухуми! – И вообще, граждане, погода нелётная! – Да!!!... В это время из тумана вынырнула ржавая корма буксира с надписью «Геракл. Феодосия». За ним – вторая. На ней было написано: «Оптимист. Феодосия». Третье судно, уже совсем рыжее от ржавчины, однако с идеально вычищенными медными частями, именовалось «Водолаз» и было также приписано к Феодосии. Сомнений не было – моя одиссея подходила к концу. Из стены дождя (дождь превращался в туман, а туман в дождь – каждые две минуты) показалась высокая причальная стенка. «Коктебель» со всего маха ахнул по ней кормой, содрогнулся и затих… Команда, за исключением одного-единственного вахтенного матроса, швартовавшего судно, и лоцмана, с трудом выбиралась из бара (пассажиров в него не пускали). Скользя по заблёванному скрипучему трапу (за неимением отдельных кают пассажиры «Коктебеля» выходили на палубу, становились рядком – и за борт, за борт… Кто же знал, что выход будет с кормы! Ну, потому и было склизко), я ступил на землю Феодосии – и ветер сразу же стих…  Порт – своими очертаниями, обилием в нём судов, гирляндами сигнальных флагов на фонарных столбах, своим настроением, деловитым, но праздничным – напоминал столь милые моему сердцу порты Ленинграда, Ялты, Сухуми. Правда, пассажирских громад там не стояло, но грузовые суда размерами превосходили всё, что я видел до сих пор на Азове, Каспии и Черноморье. Впрочем, на душу давила военная эскадра – но до поры. Когда я вышел на набережную, там как раз грянул brass-Band. Он заиграл попурри из песен на военно-морскую тематику, сильно киксуя и лажая. Но звуки оркестра и вид горожан, неспешно фланировавших, несмотря на сырость, по набережной (среди них – множество военных матросов и морских офицеров, кто с девушками, а иные и с детьми на руках), катеров, везших на берег матросов в увольнение или назад на корабль – все эти мирные кронштадтско-севастопольские картины так растрогали меня, что и крейсера на рейде мне показались чуть ли не родными – по крайней мере, без них было бы тоскливо. А судов в гавани, акватории, на внешнем и внутреннем рейде было видимо-невидимо.
Порт – своими очертаниями, обилием в нём судов, гирляндами сигнальных флагов на фонарных столбах, своим настроением, деловитым, но праздничным – напоминал столь милые моему сердцу порты Ленинграда, Ялты, Сухуми. Правда, пассажирских громад там не стояло, но грузовые суда размерами превосходили всё, что я видел до сих пор на Азове, Каспии и Черноморье. Впрочем, на душу давила военная эскадра – но до поры. Когда я вышел на набережную, там как раз грянул brass-Band. Он заиграл попурри из песен на военно-морскую тематику, сильно киксуя и лажая. Но звуки оркестра и вид горожан, неспешно фланировавших, несмотря на сырость, по набережной (среди них – множество военных матросов и морских офицеров, кто с девушками, а иные и с детьми на руках), катеров, везших на берег матросов в увольнение или назад на корабль – все эти мирные кронштадтско-севастопольские картины так растрогали меня, что и крейсера на рейде мне показались чуть ли не родными – по крайней мере, без них было бы тоскливо. А судов в гавани, акватории, на внешнем и внутреннем рейде было видимо-невидимо.
Над портом и набережной кружил вертолёт. Низко-низко, так, что видны были люди, сидящие в нём, и гнулись ветви деревьев. Вертолёт раскидывал приглашения на парад в честь Дня Военно-морского флота (кстати, где-то очень поблизости от меня Мила подобрала себе одно – и мы с ней смехотворным образом разошлись!) Близ пристани стояли под открытым небом столы со всякой вкусной снедью – и я, оголодав с дороги, кинулся на них, аки волк. И стоило того: с дальней дороги я насилу стоял на ногах. Потом, подкрепив свои силы, стал искать Цветочный переулок – и нашёл его. Правда, сначала зашёл в смежный дом на другой улице и начал звониться в ту квартиру № 12. Там никого не было. Вышедшая соседка (воплощённая Феодосия – в моём исполнении) устроила мне допрос, в ходе которого никаких улик против меня не выяснила (ай, ай, ай, тётю обидел) и вынуждена была меня отпустить с миром. А вскоре пришёл хозяин той квартиры и вежливо объяснил мне всю глубину моих заблуждений. И даже проводил до дверей Милиного подъезда. А далее – happi end. Доказывать Пенелопе, что я настоящий Одиссей, вытаскивать из дома мебель мне не пришлось – за неимением ни Пенелопы, ни своей мебели. Так что моя Одиссея счастливо закончилась. Appendix
«Науки юношей питают» (М.Лермонтов) «Нет адъютанта без аксельбанта» (К.Прутков) На следующий день (если не ошибаюсь) праздновали День ВМФ. Бутафория с Нептутом, приехавшим в порт верхом на ките (заделанный под кита лоцманский катер; 33 богатыря во главе с Черномором почему-то вылезли из его (кита, т.е.катера) чрева, а вовсе не из воды) произвела впечатление довольно богомерзкое. Парад же кораблей близ стенки причала и набережной, так что можно было разглядеть эти удивительно красивые, даром что военные, корабли – зрелище восхитительное. А когда посерёдь порта вынырнула давешняя подводная лодка – это было даже жутковато (кстати, глубина, стало быть, там порядочная). Аж взвизгнула русалка из Нептуновой свиты (русалка была совершенно такая, как и описанная в «Швейке» – якобы выловленная в Влтаве).  Потом – всякие псевдоморские дела: гребля, перетягивание каната etc. Но в разгар веселья в акватории внезапно появились два катера и стали устраивать дымовую завесу (ужасно грязную и едкую на запах). В порту все суда начали трубить тифонами тревогу, а береговой гарнизон залёг у причальной стенки и принялся струлять (форменным образом поднял пальбу, правда, холостыми). Дети лет до 12-ти – единственные, кто поначалу воспринял это хорошо; дети помладше, взрослые постарше – всем сначала было смешно – но потом до одури страшно! Тут из клубов дыма прямо на трибуны налез какой-то высоко сидящий корабль, с него грянули из орудий и пулемётов, и на берег попрыгал десант. Было полное впечатление того, что рукопашная сеча идёт не на жизнь, а на смерть. Короче – кто этот ужас увидит – не скоро его позабудет.
Потом – всякие псевдоморские дела: гребля, перетягивание каната etc. Но в разгар веселья в акватории внезапно появились два катера и стали устраивать дымовую завесу (ужасно грязную и едкую на запах). В порту все суда начали трубить тифонами тревогу, а береговой гарнизон залёг у причальной стенки и принялся струлять (форменным образом поднял пальбу, правда, холостыми). Дети лет до 12-ти – единственные, кто поначалу воспринял это хорошо; дети помладше, взрослые постарше – всем сначала было смешно – но потом до одури страшно! Тут из клубов дыма прямо на трибуны налез какой-то высоко сидящий корабль, с него грянули из орудий и пулемётов, и на берег попрыгал десант. Было полное впечатление того, что рукопашная сеча идёт не на жизнь, а на смерть. Короче – кто этот ужас увидит – не скоро его позабудет.
Далее – возложение венков к памятникам и на воду, затем – отцы города объехали суда, потом Нептун одобрил морально-боевой дух ВМФ в свете последних постановлений (до чего дубовый текст! – помесь сказок Пушкина с речами Брежнева!) и отбыл восвояси, в пучины морские (кто-то узнал в этом Нептуне то ли вице-адмирала, то ли контр-адмирала эскадры). И лишь затем порт зажил обычной жизнью (к тому времени на внутреннем рейде скопилось кораблей – что сельдей в бочке!). Нет, если вдуматься, чем хвастаемся?! Искусством уничтожать себе подобных! Думал захватить в Феодосии "Квадро" (джаз-рок группа Вячеслава Горского - М.С.) – helas («увы, к сожалению!» - фр. – М.С.), они сюда и не думали ехать. С пластинками здесь полный schwach («слабо, плохо» - нем. – М.С.), с дорогой в Керчь тоже (нет никакого прямого сообщения, всё взакрутку!). Где я буду числа 1-го - 2-го – ещё сам не знаю… Варианты следующие: а) г. Феодосия, Цветочный переулок,1 – 12 (близ Морсада, от автовокзала – автобус до центра, там чуть пройти), тел.33702, либо: b) г. Алупка, Севастопольское шосее, д.18, кв.5 (от Ялтинского автовокзала автобус на Симеиз (!) (а не на Алупку), остановка «Пожарная часть». …Будет ли уместно туда приехать – о том буду звонить. В любом случае постараюсь быть 8-го числа. Ну, до скорой встречи. Since… \неразб. по-английски\ WR Vale, amigo». А буквально через два-три дня после отъезда Володя вернулся в собственном соку и с удручённым видом. Как я понял из его неохотных намёков, "адмиральская дочь" дала-таки ему от ворот поворот, то есть не пожелала предоставить у себя жильё на пару недель. Вот так он неожиданно вновь появился в нашей палатке. Следом за ним пришло на другой день и это его письмо, которое я читал, лёжа рядом с его сочинителем на пляже под тентом. Письмо автору от В. Радченкова – июль 1985 г.
Год 1985-й, август
Симферополь. О кино, книгах и живописи. А тут как раз я собирался после Крыма съездить на пару недель в Киев по приглашению своих киевских родственников. И мы решили, что Володя составит мне компанию. Вот так запросто, без всяких проблем можно было тогда разъезжать из Ленинграда в Симферополь, а затем в Киев. Списались-созвонились, договорились, получили согласие – и поехали. Из Малореченского добирались, как всегда, теплоходиком до Алушты, далее троллейбусом по горной трассе в Симферополь. Алушта действительно предстала нам такой, какой Володя изобразил её в своём письме: ленивая масса праздных телес, наслаждающихся бездельем. Из одежды брали верх мини-бикини. Даже маленькие девочки норовили натянуть лифчик и ходить "как большие". Мы с Володей потешались, стоя над пляжем, над одной такой девчонкой, по виду первоклашкой, у которой "бюстгальтер", в котором абсолютно не было надобности, норовил постоянно съехать то вверх, то вниз, пока она бегала вдоль моря. Среди взрослых же господствовала пошлая расхлябанность. Вспоминались строчки из повести "Снюсь" обожаемого нами обоими А.Житинского: "Вокруг было наглое торжество обнаженной откормленной плоти — пляжные девочки, преферансные мальчики, пьяные глаза, грязные тарелки". Я видел, что Володю коробило от этих вихляющих телесами вульгарных дев, от откровенно масляных взглядов, которыми провожали их фигуры встречные гуляки. Помню, с какой презрительной миной он говорил мне, глядя на прогуливающихся по набережной Алушты: — Вот посмотри: они не ходят – они фланируют! Перед тем, как поехать в Киев, мы с Володей замечательно пожили три дня у моей бабушки Марии Калиничны в Симферополе на улице Чехова. Билеты в Киев не так-то просто оказалось добыть, мы дважды выстояли огромную очередь на вокзале, вот и пришлось немного "зависнуть" у бабушки. В центре старого Симферополя, преимущественно одноэтажного, я провёл вместе с ней значительную часть детства, поэтому до сих пор ностальгирую по этому городу. Эту ностальгию мне хотелось передать Володе: я водил его по заросшим жухлой травой кривым улочкам среди татарских стен с кладкой из больших камней и надеялся, что он тоже ощутит почти средневековую атмосферу всего этого. Не знаю, насколько мне это удалось... Ну, и просто шлялись по жаркому городу, заходя в книжные магазины, другие нас не очень-то интересовали (кроме, конечно, грампластиночных). Помню, я купил книгу, посвященную артисту Вячеславу Тихонову, который был тогда в расцвете и вовсю ещё играл в кино. Разумеется, почти для всех он был прежде всего Штирлицем, роль которого так блестяще исполнил за двенадцать лет до этого. Но у Володи оказался свой взгляд на эту работу артиста: – Штирлиц у него мёртвый, лицо каменное. Весь фильм одна маска! На это я возразил ему, прочтя отрывок из книги: «Актёр работает очень точно. Часто идёт крупный план. Морщинки у глаз, его застывший взгляд красноречивее слов». Насчёт "застывшего взгляда" Володя в свою очередь ответил мне байкой о художнике Александре Ивáнове по поводу его знаменитой картины «Явление Христа народу»: – Написал Александр Андреевич своё полотно, его первый вариант. Критики в восторге, говорят: «Это гениально! Как вы до этого додумались?» – «О чём вы?» – спрашивает художник. «Да вот же: у человека, стоящего на берегу, надет голубой хитон, а его отражение в реке – розовое. Потрясающая находка!» – а Ивáнов и отвечает: «Ой, батюшки, как же это я недоглядел?» Нет, конечно, Володя хорошо относился и к самому Тихонову, и к его Штирлицу. Помню, когда мы едва ли не впервые собрались нашей дружеской компанией у меня дома, все принялись обсуждать за столом фильм «Семнадцать мгновений весны», который тогда шёл по телевизору. Володя предложил каждому придумать дальнейшее развитие сюжета. В его варианте Штирлиц после окончания войны попадал в Испанию, где и разворачивались события. И надо же! – вскоре подоспел новый роман Юлиана Семёнова «Приказано выжить», а позднее – его продолжение «Экспансия», где в конце первого Штирлиц попадает в Испанию, а во втором всё действие протекает именно в ней. Так что Володя чуть-чуть опоздал! Но его прозорливость всех нас восхитила. Кстати, оба этих романа Семёнова, напечатанные в нескольких номерах «Романа-газеты», нашлись и в симферопольской квартире на этажерке среди других свежих изданий. Они цепко захватили меня на пару ночей. С большим интересом я читал и редкий двухтомник «Шаляпин» (каждая из книг размером почти с Энциклопедию), который бабушке удалось в 1960-х годах по счастливой случайности «выловить» в одном пригородном киоске. В нём были воспоминания и письма певца, которые я иногда цитировал Володе. Дочитывал я тогда и большой роман «Будденброки» своего любимого Томаса Манна – первый из его романов. В основном читал его на море во время отъездов Володи, когда оставался один. Бабушка моя вообще была человеком очень образованным и начитанным. Книг у неё в квартире обитало множество. Например, она собирала издания об учёных – им была посвящена отдельная полка. Особым почётом пользовались книги о путешествиях, о природе. И конечно, во множестве имелась разнообразная художественная литература. Володя всегда набрасывался на новое. И поскольку основную мировую литературу он и так знал достаточно хорошо, то и здесь проявил особость: его внимание привлекла повесть финского писателя Мартти Ларни под названием «Четвёртый позвонок, или Мошенник поневоле», написанная легко и с юмором. В ней рассказывается о похождениях финского учителя в Америке, где он то быстро богател, то становился нищим. Володя с удовольствием пробегал книгу близорукими глазами в своей сканирующей манере и попутно разражался восторженными отзывами. Из книг купил я тогда ещё одну: замечательный «Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения» В.И.Орлова. А Володя так и не расставался с «Энеидой» и «Четвёртым позвонком».
Год 1985-й, август же
Симферополь же, о музыке и любви. Таким он был и в музыке, питая слабость к малоизвестным и не очень-то признанным авторам – вроде Милия Балакирева или, как я уже говорил, Антонио Сальери. У него всегда было стремление защитить, реабилитировать незаслуженно забытых или очернённых композиторов. Ещё и других увлечь ими! Будучи уже признанным клавесинистом, Владимир Радченков заново открыл для слушателей множество композиторов эпохи барокко: Габриели, Алеотти, Нодо, Буамортье, Галуппи, Оттетера, Пепуша, Сандони, Гуами, Беневоло и прочих. Из нот приобрёл я тогда в Симферополе, зайдя в знакомый букинистический подвальчик, довоенное ещё издание Первого фа-минорного концерта А.К.Глазунова, который всегда очень любил, и ранние прелюдии Кароля Шимановского – второго, как считается, по величине польского композитора после Шопена. А Володя не смог найти ноты своих любимых Хиндемита и Шёнберга: до Симферополя эти буржуйские господа ещё не добрались. Традиционная охота за виниловыми дисками тоже не увенчалась особым успехом. Кроме отдела в Центральном универмаге, мы нашли только один магазин по этой теме на углу улиц Пушкина и Карла Маркса (странное сочетание наименований – так же, как угол улиц Крылова и Танкистов, где мы покупали очень вкусные блинчики), и там меня заинтересовала пластинка с ля-мажорным Квинтетом Антонина Дворжака в исполнении Святослава Рихтера и квартета имени Бородина. Но смутили две вещи: цена два с половиной рубля (вместо привычных 1 руб. 45 коп.) и последняя строчка мелкими буквами на обороте конверта: "Цифровая запись". – Что такое "цифровая"? – спросил я Володю. – Ну, это новый такой формат звукозаписи. Каким-то закодированным способом пишут – вместо магнитной плёнки. Вроде как современнее и качественнее, оттого и цена выше! Это меня убедило, и я купил пластинку. А Володя по этому случаю рассказывал мне, пока шли домой: – Есть ещё один чешский композитор, наш с тобой современник, ему сейчас слегка за 50 где-то. Однажды я слушал его симфонию, вернее – симфониетту. Вполне толково и грамотно написано! И тоже в фольклорном стиле, как этот Квинтет у тебя. Такой вот Дворжак в миниатюре, судя по музыке, и фамилия у него самая что ни на есть подходящая: Дворжачек! Йиржи Дворжачек. Володе вообще был склонен к музыкальным параллелям, сравнениям. Например, замечательного латышского композитора Яниса Иванова (Jānis Ivanovs) он очень метко называл "Мясковскас". Ведь этот крупнейший композитор Латвии, как и наш Николай Яковлевич Мясковский, тяготел к монументальному симфонизму, и гармонический стиль их во многом схож. Однажды в квартиру бабушки заглянул её друг, сорокалетний Геннадий Иванович Панин. Они познакомились за несколько лет до этого, когда он в качестве ремонтника из ЖЭКа пришёл к ней белить потолок, заинтересовался с верхотуры стремянки её хорошими книгами, взял что-то почитать, затем стал захаживать – и дело кончилось тем, что они крепко подружились. Геннадий стал говорить о бабушке: "Моя вторая мать!", она прописала к себе его сына, чтобы тот получил работу, а он за неимением места на несколько лет дал бабушке на постой свой рояль "J.Becker" 1898 года. Геннадий Иванович оказался интереснейшим человеком, глубоко разбирающимся в поэзии и музыке. Иногда мы гостили нашей семьёй у него с его женой в селе Ивановка под Евпаторией, в шести километрах от моря. Так вот, как-то Володя присел за рояль, как он иногда делал, и стал наигрывать что-то блюзовое. И тут зашёл Геннадий Иванович. Услышав игру Володи, он ещё из коридора моментально "просёк", что имеет дело с мастером, подхватил свой аккордеон (пылившийся в углу прихожей тоже на постое), влился в мелодию – и тут же они оба принялись азартно импровизировать на джазовые темы, даже не успев познакомиться. Между ними проскочила искра, оба почувствовали друг в друге завзятых джазистов. Их совместная импровизация становилась всё темпераментнее. Иногда только они успевали поочерёдно кричать друг другу: "Брейк!" – давая один другому возможность провести свой "квадрат". А я и бабушка с восторогом и благоговением взирали на эту встречу двух мастеров. Получасом позже они с таким же азартом обсуждали за чаем современную советскую и старинную английскую литературу. Чтобы доказать Володе, что я всё-таки совершаю вылазки в современную (относительно, конечно!) музыку, иногда я тоже садился за рояль и играл Вторую сонату Шостаковича, которую позднее исполнял на вступительных экзаменах. Мне она казалась очень сложным произведением, но Володя остудил меня, сказав просто: – Ну что ты, Первая соната у Шостаковича посложнее будет, чем Вторая! Странно, но почти никогда мы не заводили разговора о девочках, о любви, хотя это так естественно для двух молодых людей 20 и 24 лет. Только однажды, находясь в парке Гагарина и любуясь его видами, мы в связи с какой-то повестью заговорили о поиске женщинами своего спутника (у Володи к любви был, как мне казалось, книжный подход). – Вот ищет она себе, ищет, – рассуждал он, – перебирает варианты: нет, не тот, не тот… и вдруг: ТОТ! Вот тут-то и начинаются её беды, от самовнушения. Мне захотелось похвалиться образованностью: – Строка из «Онегина», глава третья: «Она сказала – это он!» Но Володя и тут меня поразил своими познаниями. Он уточнил: – Намёк на «Наталью, боярскую дочь» Карамзина, которую тогда все знали. Цитата оттуда, а все считают, что это Пушкин. Так же, как и «Я помню чудное мгновенье» – это то, что называется центоном, сборником цитат известных в то время стихов. Но теперь они все забыты и знакомы лишь специалистам. А мы восхищаемся: какие слова нашёл Александр Сергеич! А это не его. Он гений в том, что всё это связал воедино, соорудил целый аккорд из цитат. Больше мы о женском поле как-то не заговаривали… А, нет, вру: однажды незадолго до этого, когда ещё жили на море, проскочил между нами такой вот диалог. Как сейчас помню, мы бодро шагали по шоссе, которое вилось над крутым прибрежным склоном, из Солнечногорского в Малореченское. Внизу плескалось море, мы огибали кипарисы у дороги и говорили о нашей общей подруге и соученице. Я сказал Володе: – По моему, это лучшая девушка из всех, которых знаю! – Да, согласен! – ответил он. И тут же осторожно спохватился: – Вообще-то молодым людям в таких вещах опасно сходиться во мнении. – Ну, нам с тобой это не грозит! – беспечно откликнулся я. Как же я был тогда наивен! А ведь Володя как в воду глядел. Через три с половиной года мы действительно оказались именно по этому вопросу в ситуации «тругольника», который разлучил нас очень надолго, почти на полтора десятилетия. И только недавно отношения у нас восстановились. Конечно, это могло случиться гораздо раньше – но по причине того, что оба мы обзавелись семьями, наши встречи стали чрезвычайно редкими.
А потом мы поехали в Киев. Хорошо помню, как отъезжали вечером из Симферополя. Был потрясающий закат над Сивашом, поверхность воды и всё наше купе заливало золотом и медью. Я пытался фотографировать из окна поезда эти пейзажи с заходящим солнцем, но на выходе получилась полная ерунда. Все снимки оказались неудачными, по ним невозможно представить той красоты, которая перед нами расстилалась. Тем более, что цветной плёнки у меня тогда уже не было. Соседи по купе нам попались приятные, женщина лет тридцати пяти с дочкой. Володя быстро нашёл с мамашей общие темы, проговорив до полуночи, и мы сами не заметили, как на другой день оказались в Киеве. Первым делом отправились к моим родственникам, жившим на проспекте Гагарина. Встретили нас мои украинские тётушки Юля Ломако и её родная сестра Наташа с мужем Димой. Сами они на эту неделю уезжали все на какой-то загородный отдых, поэтому любезно предоставили нам свою квартиру в распоряжение, показав, где, что и как – в частности, под какую кафельную плитку на полу у дверей соседей на лестничной площадке положить ключи, когда будем уезжать. Вот так было в те времена! Жили, особо не заморачиваясь. На следующий день, идя вдоль Днепра, мы отыскали тихое место в Гидропарке, куда потом стали приходить каждый день, пережидая жару. Берег был совершенно безлюдным, купайся в чём мать родила! При этом невдалеке раскинулся мост, по которому ходит метро между станциями «Днепр» и «Гидропарк» (снующие над Днепром туда и сюда составы были нам хорошо видны), а на другом берегу высился собор Лавры. И не поверишь, что центр города! Вечерами мы бродили по Киеву и любовались его красотами. Заходили в кафе и магазины – в основном опять же книжные. Первые пару дней я постоянно фальшиво насвистывал диксиленд, а Володя незаметно морщился, не решаясь из деликатности сказать, насколько это его раздражает. Только на третий день до меня дошло, и я перестал истязать бедные володины уши. Дима работал киномехаником, заглядывал иногда домой и даже пару раз проводил нас со служебного входа в кинотеатр, где он «крутил картины». Первый раз попалась нам «Легенда о княгине Ольге», вышедшая на экраны за год-два до этого. Действие её происходит в основном как раз в Киеве. Это кино, претендующее на историчность и достаточно зрелищное (даже с элементами эротики), показалось нам довольно пустым и слабо сыгранным. Второй раз повезло больше – то был самый свежий фильм «Женихи», только что снятый на той же киевской студии имени А.Довженко. На этот раз нам понравилось. В то время я писал свой первый в жизни рассказ. Сюжет придумал такой: два юных друга (конечно же, прототипами были мы с Серёжкой Васильевым) настолько преданы друг другу и тесны духовно, что когда один из них, с больным сердцем, чувствует приближение кончины и знает, как будет страдать без него другой после его смерти, делает такой финт: заранее пишет другу несколько больших писем, якобы с того света, в которых просто беседует с ним по душам, вспоминает былое и рассказывает о том, как ему теперь живётся. А потом тайком договаривается с верным человеком, работа которого связана с постоянными разъездами по стране, что тот, узнав о "часе икс", начнёт периодически, раз в два-три месяца, опускать эти письма в разных городах (это оговаривалось в письмах: они будто бы отправлялись «оттуда», то бишь с того света, с оказией, – и ничего, если адресат всё равно догадается, что к чему, это не главное). Герою казалось почему-то, что это скрасит жизнь друга и облегчит переживание утраты. Рассказ наивно назывался: «Письма оттуда». Володе я постеснялся сказать о том, что начал какие-то писательские пробы (тем более, на такой сомнительный сюжет), и просто спросил его: – Не знаешь ли, где в мировой художественной литературе есть описание загробного мира? И Володя тут же, пока мы шли по бульвару Шевченко, принялся выдавать мне по памяти различные сюжеты из зарубежной и отечественной литературы, где описывается потусторонняя жизнь – от Данте Алигьери до Маяковского. В этом списке было десятка полтора литературных произведений! Вот так запросто, с ходу, включив свою фантастическую память, он вспомнил их. Жаль, что я теперь не могу «огласить весь список», всё-таки больше двадцати лет пролетело, а у меня такой памяти нет. Рассказ я в итоге так и не дописал... Однажды под конец дня мы наткнулись на золотую жилу: крупный специализированный магазин грампластинок. И – пропали там на целый час! Ассортимент был роскошным и совершенно отличался от нашего, ленинградского. Такого разнообразия дисков мы до этого не встречали. А главное – пластинки в этом заведении можно было трогать, перебирать и набирать всё, что нужно, самому, – и потом уж идти со своим уловом на кассу. У нас в Питере ни в одном магазине таких вольностей не было! Мы, конечно, тут же хищно набросились на ряды полок с виниловыми дисками – каждый по своему вкусу. Я приобрёл несколько пластинок с классической музыкой. Володя одобрил мой выбор; а сам он, как и следовало ожидать, по уши погрузился в джаз. Для него это был огромный своеобразный мир, в котором он купался и просто жил. Он всегда был тонким ценителем и знатоком этой области музыки. Будучи не в силах отказать себе в интереснейших выпусках пластинок с лучшими исполнителями (от одного вида конвертов веяло далёкой «закордонной» жизнью, ведь джаз был в основном зарубежным, да и сами диски тоже – пусть и из соцстран), Володя набирал и набирал, ползая на корточках вдоль полок, пёстрые квадраты, оформленные ярко и непривычно. Когда стопка пластинок в его руках стала довольно внушительной, какой-то нагловатый парень, стоя со своей девушкой поодаль, сказал ей громко: – Смотри, какой тип забавный! Наверно, собирается скупить весь джаз. И сделал ещё несколько подобных язвительных замечаний, да так, чтобы адресат слышал. В конце концов Володя не выдержал и, собрав весь свой джазовый урожай до конца, встал и подошёл к парню вплотную. Тихо, но чётко, он выдал такую реплику: – А вы знаете, молодой человек, что в средние века за обращение в третьем лице вызывали на дуэль? И, между прочим, могли убить! После чего развернулся и спокойно направился к кассе. Парень, как говорится, «выпал в осадок» и остался стоять молча.
В один прекрасный вечер случилось неожиданное. Мы, как обычно, возвратились после купания с гулянием и собирались уже ложиться. И тут вдруг приехал с работы Дима и уже в темноте увёз нас на служебном "жигулёнке" за тридцать километров на берег Десны, что впадает в Днепр. Там отдыхали кемпингом остальные родственники по линии Ломако, все поколения – от бабушек за восемьдесят до маленьких детей. Вот, оказывается, где пребывали мои тётушки всё это время! И вновь мы с Володей, примкнув к ним, обитали в палатке, как перед этим в Крыму. Днём плавали на байдарке, а вечерами сидели у костра, человек десять нас было. Самым уважаемым лицом нашей родственной компании была мама Юли с Натой и жена родного брата моей бабушки Вера Ивановна Фонберг – потомок генерала Григория Максимовича фон Берга (участника войны с Наполеоном, служившего ещё при Екатерине Второй), портрет которого кисти Джорджа Доу можно увидеть в «Военной галерее» Эрмитажа. Вера Ивановна оказалась интереснейшим человеком! Эта пожилая учительница рассказывала нам по вечерам у огня предания и легенды Карпат. Палатки, костры, байдарка – этой романтикой были наполнены несколько дней нашего пребывания в кемпинге. Не хотелось уезжать, но уже были заранее куплены билеты на поезд в Ленинград. Ежедневно мимо нас по реке проходил настоящий колёсный теплоход. Володя был в восторге от этого раритета и пожелал непременно возвращаться в Киев именно на нём (к тому же он признался мне, что его дико укачало в том "жигулёнке" по пути сюда: "Нет ничего ужаснее, чем облегчённый жигуль!" – с отвращением сказал он потом). Однажды Володя спас меня, подплывшего на байдарке слишком близко к этому идущему теплоходу (по крайней мере, он считал тогда, что спас). Просто ринулся в воду и отвёл мой транспорт рукой. Как говорится, вынул прямо из-под колёс! Речных. До сих пор не знаю, так ли было опасно это моё соседство, но тогда я не понял Володю и обиделся. Целых полтора часа с ним не разговаривал и наломал за это время кучу дров (в буквальном смысле), сняв таким образом напряжение. Но потом всё быстро между нами наладилось. Володиному желанию возвращаться водой пошли навстречу и в день отъезда переправили нас с вещами на байдарке на другой берег. Мы взошли на судно – и тут нас ожидало новое чудо: из динамиков зазвучал «Битлз»! Сейчас уже мало кто может оценить, что значило услышать "Битлз" в 1985 году! Эти редкие записи смело (по тем временам) включил капитан. И под эту музыку Володя всю дорогу пребывал в нирване, сидя на верхней палубе, пока плыли обратно по Десне и Днепру. В нашем беззаботном киевском житие, в самом его конце, случился один "бэмс" (говоря володиным языком). Теперь-то, по прошествии двадцати лет, он воспринимается с юмором, но тогда нам было не до смеха. Мы опоздали на поезд! Наш состав, следовавший по маршруту "Киев - Ленинград" отошёл на две минуты раньше расписания. Мы примчались с рюкзаками на платформу и увидели его удаляющийся хвост. Что делать? Оправились от шока и побрели менять билеты на завтра. Что не без труда и нервов, но удалось. Взяли, правда, плацкарт, да ещё боковой, но было не до жиру! Конец лета, с билетами дикая напряжёнка, так что и этому радовались. В опоздании отчасти была и моя вина. Часа за три до отъезда я в одиночку побрёл пошататься по Киеву и... заблудился! Заплутал в каких-то кварталах на окраине и еле нашёл дорогу к метро. Так что вышли чуть позже намеченного, вот и не рассчитали. Хорошо, что ключ так и лежал под плиткой, где мы его оставили. Переночевали ещё одну ночь, незапланированную (вернувшиеся наутро с Десны тётушки очень удивились, застав нас спящими). И уж на другой день постарались прибыть вовремя. Встречал нас на Варшавском вокзале отец Володи, Михаил Егорович. Вот так закончились наши летние скитания. Володя с сентября начал свою официальную трудовую деятельность, да и я уже почти год как работал по специальности. Но мы не собирались прекращать общения и готовились к новым встречам, в том числе и на предстоящих "Осенних ритмах".
Год 1985-й, сентябрь
Кино и «Битлз» В сентябре возобновились наши с Володей походы в кинотеатры. Не всегда удавалось попасть на хорошие картины, случались и неудачные. Помню, как втроём, вместе с Сергеем Васильевым, пошли мы в том месяце на свежий фильм «Двойной обгон» – детектив с преступлениями и погонями, но выходя из кинотеатра, дружно плевались и жалели потраченное время. Зато из хороших фильмов, которые тогда выходили в прокат, нам попались «Блондинка за углом», «Любовь и голуби» и «Завещание профессора Доуэля». Этот последний был вполне в нашем стиле. Мы постепенно сошлись на том, что два лучших года в отечественном кинематографе – это 1972-й («Монолог», «Солярис», «Точка, точка, запятая», «Учитель пения») и 1979-й («Осенний марафон», «Сталкер», «Летучая мышь», «Москва слезам не верит», «Место встречи», «Дикая охота короля Стаха» и ещё много замечательных фильмов). Начали мы в тот сезон посещать и актовый зал Университета, что на Васильевском острове. Стали ходить на цикл ежемесячных лекций, посвящённых ансамблю “Битлз”, проводившийся его Музыкальным клубом. Первая же лекция 19 сентября, называвшаяся «Из истории “ The Beatles”», оставила яркие впечатления. Во время прослушания записей мне всё время вспоминалось наше недавнее плаванье на колёсном пароходе по Десне под “Битлз”. Наобщавшись с моим другом за время летних путешествий, я начал подумывать о высшем образовании, хотя до этого не считал нужным иметь «вышку», меня вполне устраивало моё «среднее специальное». Нашу питерскую консерваторию я полагал себя не способным осилить, поэтому подумывал о других – Вологодской или Петрозаводской, хотя бы о заочном отделении. Однажды в начале осени (мы возвращались тогда по Загородному проспекту с какого-то фильма) я спросил у Володи: – Как ты считаешь, потяну ли я на будущий год Вологодскую консу? – Не могу судить, я ведь не знаю твоего нынешнего музыкального уровня. А вообще если что – говори, помогу! Окончив тем летом нашу консерваторию (ЛОЛГК), он как раз начал с того учебного года свою педагогическую эпопею, продолжающуюся до сих пор.
Год 1985-й, октябрь
Вячеслав Харинов и другие Из событий того октября, кроме второй лекции о “Битлз” (на этот раз речь шла о «Белом альбоме»), помню выставку, посвящённую Комитасу (Согомону Согомоняну), которую кто-то из его поклонников устроил к 50-летию со дня смерти этого гениального армянского музыканта с трагической судьбой. Мы ходили на неё с Володей, от коего я и узнал об этой выставке и о самом Комитасе. Кроме того, весь тот год я посещал Лекторий на Литейном 42. Мама Светы Ветловой сделала мне царский подарок: пропуск туда на любые лекции в течение всего сезона 1985-1986 года. Тогда я добросовестно выписал в тетрадку все циклы лекций из анонса и выбрал те, что меня более всего заинтересовали (а в таком возрасте обычно интересует всё на свете!), их набралось много десятков на всевозможные темы – от живописи, истории, литературы и психологии до курсов быстрого чтения и тайн семейных отношений между супругами. Из наиболее ярких и запоминающихся в том месяце были лекции М.Ю.Германа о французской живописи. Я восхищался красивой и свободной речью Михаила Юрьевича – великолепного знатока живописи, автора огромного количества книг о ней (и кстати, брата известного кинорежиссёра Алексея Германа). А Володя всё больше окунался в старинную музыку. От него я впервые услышал тогда имена первопроходцев возрождения старинной музыки у нас в стране – Олега Янченко, Геннадия Гольдштейна и Ивана Шумилова. Олег Янченко, встреча с которым, как помним, оказала в своё время сильное влияние на юного Владимира Радченкова, руководил в те годы «Мадригалом» – самым, пожалуй, ранним у нас ансамблем старинной музыки, наряду с «Хортусом». Аналогичный коллектив под названием «Pro anima» («Для души») создал в 1977 году Геннадий Гольдштейн. За 1980-е годы «Pro anima» записал три грампластинки на фирме «Мелодия», в четвёртой же их записи 1991 года Владимир Радченков будет уже участвовать в качестве клавесиниста. Легендарный музыкант Иван Шумилов, флейтист и саксофонист, создатель старинного ансамбля «Musica Practica», пришёл к музыке Возрождения, как это ни покажется странным, через джаз. Именно старинная музыка помогла ему оживить джазовые формы и вдохнуть новую жизнь в свои знаменитые импровизации. Примерно в то же время Володя начал музицировать с кларнетистом Вячеславом Хариновым и его ансамблем «Musica ricercata». Сначала они исполняли старинную музыку, но вскоре перешли на джаз (у Радченкова эти два рукава музыкальной деятельности так и останутся параллельными). Сейчас Вячеслав Юльевич вспоминает: – Володя играл с нами время от времени, как сессионный музыкант. У меня с ним были отдельные записи – не знаю, сохранились ли они. Например, мы с ним записывали на органе консерватории 12 сонат Джустиниани (итальянского композитора XVI века). Но самое главное, конечно – это джазовый коллектив под управлением Владимира Радченкова, который у нас сложился. Это намного более серьёзно и замечательно! Ведь старинная и джазовая музыка явно смыкаются. В общем-то, основное, что мы с ним исполняли – это всё-таки джаз! У меня осталось множество партий, которые он переписывал для нас. Очень жаль, что не сохранились полные партитуры, полный дирекцион. В основном есть партии для саксофона. Но это большая ценность, это целый пласт! Джаз я играл практически только с ним одним. Тогда в Ленинграде был организован Первый конкурс молодых джазовых исполнителей, который проводил джаз-клуб «Квадрат». Первое место в нём не присуждали. Мы оказались на втором и по ансамблю, и по композициям, а Володя стал таким образом лучшим джазовым пианистом в Ленинграде. На этом конкурсе мы были отмечены ещё и как ансамбль с лучшим гитаристом. У нас были также прекрасные трубач, контрабасист, певица и саксофонист. В общем, это был, может быть, самый верх наших достижений! Володя был безусловным лидером ансамбля. Писал и партии для всех, и собственные сочинения. Некоторые вещи с ним играли по моей просьбе: я очень люблю Джерри Малигана, Чета Бейкера, он делал их обработки. Володя и сам по себе очень интересен как джазовый композитор. Правда, вкусы у нас с ним были разные. Ему интересна была музыка, которая мне казалась сложной и немножко заумной, аморфной, что ли. Я люблю музыку более определённую, ценю мелодическую остроту – то есть я скорее блюзовый музыкант, нежели джазовый. А он любил и ценил гармонические изыски, связанные блок-аккорды. Хотя у него есть и интересные мелодические линии... Импровизировал он всегда замечательно! Он хороший стилист, великолепно ориентируется в разных стилях. Может быть, ему не хватает некоторого чувства свинга (нарочитые синкопы, акценты). Он явно музыкант классической формации. Но невероятно чуткий, универсальный. Мы с ним довольно много поиграли вместе, и это было здорово и очень интересно! К сожалению, когда я стал священником, мы практически перестали встречаться. Но вся наша «боевая юность» прошла вместе!
Год 1985-й, ноябрь
«Осенние ритмы» Наконец – вот они, долгожданные «Осенние ритмы»! Крупнейший джазовый фестиваль в стране. Это священнодействие длилось в ноябре 1985-го несколько дней. Проходило оно во Дворце культуры и техники имени В.В.Капранова на Московском проспекте, 97. Мы шли от станции метро «Московские ворота» до необычного здания в стиле ленинградского конструктивизма конца 1920-х годов (к сожалению, недавно этот интересный объект культурного наследия был полностью разрушен под предлогом аварийности ради строительства элитной гостиницы, хотя есть планы по его восстановлению приблизительно в первоначальном виде). Там, в большом зале почти на полторы тысячи мест всё и происходило. Билет на каждый концерт сильно кусался, стоил он целых 5 рублей! – но я тогда уже ровно год, как работал по музыкально-педагогической специальности, и сам стал немножко получать (хотя на 84 рубля в месяц не очень-то разбежишься!), перестав полностью зависеть от родителей. Почти 20 лет, как начались джазовые фестивали в нашей стране – и начались именно здесь, в Ленинграде. Здесь же зародился и знаменитый «Ленинградский диксиленд». Лишь только мы появлялись в здании, как вокруг начинали мелькать в разговорах фамилии корифеев джаза: Куценко, Вапиров, Голощекин, Чижик, Ганелин... Сюда съехались джазовые музыканты со всего Советского Союза – от Прибалтики до Средней Азии (вот где пример дружбы народов, толерантности изнутри, а не той, которую нам сейчас насаждают власти «сверху»!) Соответственно, и программа была достаточно пёстрой. Это был винегрет из всевозможных стилей. Звучал джаз классический, авангардистский, модальный. Так всегда и бывает на подобных фестивалях. В общем, наслушались мы джаза за эти дни «по самое си-бемоль», как говорит наш друг Сергей, которого мы с Володей всё-таки вытащили сюда пару раз. Как водится, в самом начале фестиваля была отдана дань джазу классическому. И здесь наиболее ярко проявил себя биг-бэнд Кима Назаретова, который и открыл собой «Осенние ритмы». После него выступали трубач Юрий Ушаков и квартет тромбонистов. Далее шли трио Валерия Мысовского, квартет Зигурда Резевского, ансамбль Игоря Бутмана и трио Вячеслава Назарова. Они импровизировали на известные ретро-мелодии Керна, Леграна, Тапера, Янга. После них играли трио Арташеса Карталяна и ансамбль Валерия Зуйкова. Запомнились мне «Соленые орешки» на известную тему «Диззи» Гиллеспи, исполнявшиеся квинтетом Михаила Левина. И особенно потряс саксофонист Владимир Чекасин, который играл в паре с клавишником Олегом Молокоедовым. Мне кажется, что чекасинская импровизация – это вообще стихия, иногда доходящая до трагического. В некоторых статьях Чекасин называется лучшим джазовым музыкантом страны. Весь фестиваль вёл крупнейший специалист по джазу Владимир Борисович Фейертаг, которого Володя шутливо называл Фейербахом.
Грампластинки с "Осенних ритмов-85" и ДК им.Капранова, где они проходили, в то время.
Год 1985-й, декабрь
Декабрьские вечера Из других приобщений к прекрасному в конце 1985 года вдвоём с Володей запомнилось мне исполнение в БЗФ редкой музыки из балета «На Днепре» Сергея Прокофьева и оперы Вениамина Флейшмана «Скрипка Ротшильда» по рассказу Чехова (в оркестровке Шостаковича). Что до балета, то мы сходили тогда и в Малый оперный театр на вечер балета – главным образом из-за того, что в числе прочих композиторов там звучал Максим Березовский, русский композитор XVIII века, которым Володя тогда активно занимался, «откапывая» в библиотеке на Фонтанке его музыку. А в одиночку я продолжал дважды в месяц ходить на лекции М.Ю.Германа, посвящённые живописи. В декабре он рассказывал о художниках Делакруа и Кипренском. Делакруа особенно интересовал меня как автор знаменитого портрета Шопена. Ну и, конечно, как и каждый декабрь, наш Ленинград очередной раз удостоила своим приездом бесподобная Элисо Вирсаладзе, выступая с концертами Моцарта, и мы с сестрой не могли пропустить её выступлений.
Год 1986-й, зима-весна
В «Барокко Консорте» В 1986 году, ставшим знáковым для Володи, он влился в ансамбль старинной музыки «Барокко Консорт», который создал в 1983 году Анджей Борейко, сегодня являющийся известным симфоническим дирижёром. С этого времени уже в качестве артиста, а не слушателя, Владимир Радченков регулярно выступает с исполнением произведений эпохи барокко и русской старинной музыки. Так продолжается по сей день, двадцать лет подряд. За это время ансамбли менялись, а музыка оставалась. Вот как Володя со свойственным ему сарказмом (но при этом и с безграничной любовью к старинной музыке!) рассказывал в том же 1986 году Сергею, уже служившему в армии, в своём письме о становлении этого ансамбля: « …Итак, из истории команды за именем «Барокко консорт». Самое занятное в облике этого ой-ой-ой-коллектива – это его название. В ино время, когда музыка не знала разделения на оркестр и ансамбль, существовало такое универсальное слово «консорт». Ныне о нём вспомнили и зовут этим именем самые разнообразные составы. Так что первый руководитель «Консорта» Анджей Борейко (sic!) не был оригинален в названии. Однако – слово «консорт» проистекает от латинского «consortium», сиречь «согласие», и нужно обладать неповторимым чувством юмора, чтобы назвать так эдакую скандальную шару. Существует эта команда уже три года. Сначала – на правах самодеятельности (т.е. «самонадеятельности») во Дворце молодёжи. А через некоторое время – влилась в Ленконцерт. Но всё это было до меня. Состав был следующий: оный Анджей играл на родительском подарке – двухтысячном зелёном клавесине, копии инструмента XVI века, также дудел во флейты и, говорят, порывался петь женским голосом. Саша Кискачи, флейтист из «Pro anima», и Олег Кузьмин, старейший барочный флейтист города, играли на продольных и поперечных флейтах. Саша Файн, к тому времени окончательно сформировавшийся как инструменталист-многостаночник, чередовал гобой с фаготом. Было ещё два струнника – виолончелист Боря Райскин, который хоть не скрывал своей нац.направленности (от этого, впрочем, на виолончели лучше не игравший) и скрипач Володя Шуляковский; этот «канал» под шляхтича (разумеется, на игре это также в лучшую сторону не отражалось). Далее – события приняли следующий поворот. У врат Лен.филармонии разыгрался тамам (спроси у своего муфтия, объяснит, что это такое – трудно подыскать цензурное слово). Анджей хлопнул дверью, унеся с собой клавесин. Однако мудрый Файн быстро изориентировался на местности, устроил ансамбль на репетиционную базу, а вместо Анджея за клавесин – уже за казённый – посадил меня. Руководить этой корпорацией он, впрочем, не стал, и посадил на царство Кискача (см.заключительную сцену II фильма «Иван Грозный»). Саша Кискачи происходит из древнего музыкантского рода, сродни Нейгаузам и т.д. и т.п. Новый руководитель немедленно изделал всем grand-сыктым, после чего Боря Райскин, несмотря на своё прямо-таки племенное происхождение, был вытеснен из ансамбля. Причём, как ни странно, русским. Называется он Костя Кучеров, отчего хуже не играет. Место в этом консорте довольно горячее. Однако работа хоть и скандальная, но музыканты (за малым исключением в виде псевдошляхтича, который, впрочем, проявляет талант Урии Гиппа, и ныне положение его довольно прочно, настолько, что при желании Саше Кискачи может не остаться ничего, кроме флейты и вывода касательно змеи на груди; а уж что там говорить о положении остальных…) весьма сильные, играть с ними одно удовольствие. Да и к тому же общение с первоклассной музыкой, перед глубиной и стройностью которой самые глубокие и стройные инструментальные сочинения XIX века выглядят бессвязным бредом. В программах «Консорта» достаточно представлены сочинения всех Бахов, Вивальди, Корелли, предостаточно Генделя. Но так вышло, что предпочтение отдаётся авторам менее знаемым, отчего, впрочем, музыка их вовсе не хуже. Так, например, в концертных программах поднимаются сочинения знаменитого француза (ныне едва не забытого), автора интереснейших опер, камерных и оркестровых концертов, концертных арий – Жозефа Бодена де Буамортье. Были «подняты» ещё ряд мастеров из Англии (а ведь до сих пор на полном серьёзе уверяют, что таковых у них не было!) Ричарда Мадже и Джона Кристофера Пепуша. Подъемлется огромное количество музыки охаянного Альбертом Швейцером и Роменом Ролланом в связи с И.С.Бахом гения – Георга Филиппа Телемана. Проходить через эту музыку – хорошее подспорье в композиторской деятельности, а участие в деятельности исполнительской – это также огромное благо. Нотный материал добывается из различных источников правдами и неправдами, и тут же переснимается. В основном, ансамбли обмениваются нотами меж собой. Официальное место работы – всё то же Колпино. Правда, моими стараниями там меньше ругают Баха (и даже узнали Генделя), но всё равно скучища там такая – хоть волком вой…» Таким образом, «Барокко Консорт» существовал к тому времени под эгидой Ленконцерта (тогда ещё так называвшегося). Итак, в «володин» состав ансамбля вошли флейтисты Александр Кискачи, Олег Кузьмин и Александр Файн, скрипач Владимир Шуляковский, и виолончелист Константин Кучеров; Владимир Радченков же, как правило, исполнял на клавесине генерал-бас. Иногда в ансамбле участвовала певица Марина Филиппова. Володя много просиживал теперь в архивах, отыскивая редкие произведения Буамортье, Корелли, Бассани, Кванца, Гуами, Габриели и многих других барочных авторов, радуясь каждой интересной находке. Помню, с каким восторгом он рассказывал мне о заново открытом им композиторе Лефлотте. Выступали они в галантных костюмах той эпохи – расшитых камзолах, жилетах с кружевными воротниками, широкими поясами и большими пуговицами, в башмаках с «золотыми» пряжками. Инструментарий был подобран соответствующий: либо той эпохи, либо копии. Деревянные блокфлейты делались на заказ: например, сопрановую флейту изготовил старый мастер-японец, который умудрился внутренний канал сделать не круглым, а восьмигранным! Это придавало звуку особую краску. Очень гордились музыканты виолончелью Кости Кучерова – подлинным инструментом 17-го века. Ансамбль играл в основном во дворцах Ленинграда и области: в Пушкине, Павловске, Гатчине, Петергофе, Стрельне. Я старался не пропускать ни одного их концерта. А на следующий год приобрёл даже кассетный магнитофон, чтобы записывать их музыку. – Общение после, – бросал мне теперь при наших встречах Володя на быстром ходу, как во время нашей совместной учёбы в училище, спеша в зал с музыкальным инструментарием, дабы подготовиться к выступлению и переодеться в старинный костюм. В основном выступления ансамбля проходили достаточно легко и с успехом. Но, хотя большей частью отзывы были восторженными, не все слушатели были подготовлены к восприятию непривычной на слух музыки, к аутентичному её исполнению, не все с ходу понимали такую трактовку. Поэтому часто концерты предварялись вступительным словом. Обычно его произносил А.Кискачи, но иногда что-то добавлял и Володя. И всё равно после концерта он с горечью бросал иногда: – Правильно говорят: «Публика – дура»! Достали уже нас своими дурацкими вопросами и замечаниями. Мне вспомнились слова Шаляпина из книги, которую я читал в Симферополе: «Публика не в состоянии воспитать личность артиста, художника, артист талантливее её. И выходит как-то так, что публика невольно стремится принизить личность до себя». Да и Андрей Тарковский говорил уже в наше время: «Никаким массам искусства и не надо, а нужно совсем другое – развлечение, отдыхательное зрелище на фоне нравоучительного „сюжета“». И всё-таки стиль барокко становился в те годы всё более популярным. Почти параллельно с «Барокко Консортом» возник новый аутентичный ансамбль под названием «Ars Consoni», его создал в том же 1986 году Владимир Федотов. На мой удивлённый вопрос, отчего пошла теперь «в гору» барочная музыка, Володя ответил: – Понимаешь ли, из нашего времени перекинут мостик в век 18-й. Ты ведь заметил, наверно, что музыка эпохи романтизма уже сходит со сцены? Листа и Шумана стали меньше исполнять. Сейчас возникла потребность в стройности формы, в ясности и «причёсанности» музыки. Наше время смотрится в эпоху барокко, как в зеркало.
Год 1986-й, весна-лето
Бортнянский, джаз, журавли и Бухара Володя и нас всех привлекал к старинной музыке. В ту весну он водил нас на клавесинные и органные концерты, а в начале марта Сергей, который оканчивал в тот год музыкально-педагогическое училище и превосходно владел аккордеоном, исполнил на нём в одном из концертов училища, проходившем в Доме Культуры имени Горького, органную «Токкату» Фрескобальди. Вообще-то в то время Сергей и без участия Володи сильно увлекался композиторами XVIII века – Альбинони, Марчелло, Вивальди, и всегда приезжал ко мне с полным дипломатом пластинок с их музыкой. Более того: Сергей раздобыл где-то ноты до-мажорной сонаты Дмитрия Бортнянского и даже переписал её всю от руки. Как же вцепился в эту музыку Володя! Он страшно заинтересовался и тут же разучил эту сонату на клавесине. «Барокко Консорт» позднее часто исполнял ре-мажорный концерт Бортнянского – ещё одно произведение этого старинного русского композитора, создателя жанра хорового концерта. Но и джазом друг мой продолжал заниматься не менее серьёзно. Однако первая его попытка создать джазовый ансамбль была неудачной: – Сколотились мы поначалу, собирались и занимались вместе, но потом пришлось мне их разогнать, все оказались лентяями, – признался он мне. – А теперь хочу собрать новый коллектив, уже есть на примете хорошие музыканты! После этого и появился их замечательный ансамбль с Вячеславом Хариновым. Кому-то может показаться, что старинная музыка эпохи барокко и джаз – вещи абсолютно разные, даже противоположные, находящиеся на разных полюсах музыкального искусства. Это не так. Между ними много общего и в импровизационном начале, и в ритмической свободе (но не метрической). Соединение джаза с барокко вполне логично и органично: в европейской музыке 17-18 века уже заложено многое такого, что в веке 20-м было реализовано в искусстве джаза. Поэтому именно барочная музыка гораздо ближе к джазу, нежели классическая. И недаром столько джазовых музыкантов занималось и всё больше занимается старинной музыкой! А потом мы не виделись с Володей целых полгода. В апреле, в возрасте 21 года, я сбежал из Ленинграда в Рязанскую область и сменил профессию, ударясь в орнитологию. Стал работать в Питомнике редких видов журавлей. Думал – навсегда, оказалось – на время (обычно-то бывает наоборот). От музыки не убежишь! Но с тех пор моя жизнь многими ниточками связана с Окским заповедником и с журавлями. Затем была Москва и возвращение домой, поездки с Сергеем и сестрой Светой в лес с палаткой на берег реки Мги, а в июле проводы его в армию, после чего я с горя от этого события махнул на другой день в Крым (отдельной пищей для моих тяжёлых мучений по поводу расставания с Сергеем было то, что первоначально его забрали во флотскую часть, а сие означало не два года службы, а три – и только через полтора месяца выяснилось, что это, по счастью, не так!), попытавшись устроиться в заповедник по орнитологической части и в тех краях, под Геническом, но безуспешно. Из Симферополя поехал на Западную Украину, в Прикарпатье – повидать родных и развеяться от переживаний за Сергея; потом была в начале августа опять неделя в Москве, и наконец – полтора месяца (аж до начала октября!) провёл я в Узбекистане, под Бухарой, куда мама, несмотря на мои первоначальные протесты, отправила меня в санаторий подлечить почки. В Бухаре можно было разжиться в книжных магазинах очень хорошей литературой – той, что в Москве и Ленинграде не доходила до прилавков. Я накупил там кучу книг, потратив на них все свои деньги, так что на разные экскурсии от санатория (например, в Самарканд, Ургенч или Ташкент) съездить не смог, а жаль теперь. Для будущих подарков Володе я приобрёл «Силуэты» Юрия Нагибина – очерки о музыкантах, учёных, писателях и поэтах от Баха и Ломоносова до Аксакова и А.Толстого, роман-исследование «Судьба Пушкина» Бориса Бурсова, старейшего нашего пушкиниста, и «Воспоминания» Авдотьи Панаевой (Головачевой), написанные в пушкинскую эпоху. Себе же взял повести Джеральда Даррелла (свежие, этого же года издания), кое-что из русской классики, фантастику Г.Уэллса («Пища богов», «Первые люди на Луне») и уж не помню, что ещё. Только уже где-то в середине августа я наконец догадался написать своему другу из Средней Азии письмо, в котором рассказывал о своей работе по выращиванию стерхов и других журавлей в Окском заповеднике, отбытии Сергея в армию 6 июля; затем описывал Львов, Бухару и прочие города, где довелось побывать летом (причём старался, как и он, дать их портреты – но уже без рисунков, на кои у меня не хватало рисовальных способностей, а только словесно); писал о своей жизни на Востоке, о дворце Эмира Бухарского, рядом с которым жил, и о здешних пёстрых восточных базарах, важную нишу в которых занимает, как ни странно, корейская «мафия»; отдельно говорил о купленных пластинках и о том, что сейчас разучиваю на рояле.
Год 1986-й, июль
Его письмо Свете В июле Света Ветлова в составе студенческого стройотряда уехала в Пятигорск – заниматься малярно-штукатурными работами. Я написал ей туда – и, в отличие от моего письма к Володе, осмелился в конце письма нарисовать панораму Бухары с её медресе, мечетями и минаретами. Потом выяснилось, во-первых, что этот рисунок страшно её впечатлил, а во-вторых, что помимо меня ей и Володя туда писал: "16 июля. Ты знаешь, Света, я никогда не предполагал, что это такая сложная вещь – писать письма. Несколько вариантов моего к тебе письма по прочтении были безжалостно отвергнуты. До того они вышли какими-то бессвязными и бессмысленными, что я просто сам себе удивлялся (или, говоря по-одесски, «сам с себя»). То забрасывал тебя какими-то нелепыми вопросами, на которые имел наглость сам и отвечать (кому? себе? тебе? – не понятно). То – ещё лучше! – чуть было не составил тебе путеводитель по Пятигорску, Железноводску и прочим местам, которые сам-то едва помню! А это самое бессмысленное из всех занятий – направлять чьё-то восприятие. Это уже смахивает на культ личности… Так что по прочтении я не счёл ни одно из них достойным твоих глаз. А новые варианты – они как-то заставляли себя ждать. Поэтому и протянул столько времени. \...\ Но если вдуматься, то всё это во многом проистекает и оттого, что события моей нынешней жизни, малочисленные и неинтересные, не заслуживают подробного описания. Концертный сезон завершился как раз в день твоего отъезда. В Манеже на выставке Театрального музея «Консорт» сыграл свои коронные номера – трио Телемана из цикла “Tafelmüsik” (кстати, “Tafelmüsik” (буквально – «музыка к столу») не нужно понимать, как музыкальное сопровождение к застолью. У немцев была традиция собираться периодически у какого-нибудь капельмейстера «за стол» и играть за этим столом друг для друга. Хозяин и гости в таких случаях заботились о свежих, ещё не игранных произведениях – примерно то же, что и Jam-session), трио Буамортье, пару сонат Генделя, пресловутый концерт Вивальди (в варианте с блокфлейтой) и одно прелюбопытное, малоизвестное (пока) сочинение – Концерт для 4-х мелодических инструментов и генерал-баса Джона-Кристофера Пепуша (биографическая справка: английский композитор, выходец из Германии, злейший конкурент Пёрселла, Крофта, а потом и Генделя). Музыка на редкость умна, талантлива и обаятельна, и это при том (а может быть, благодаря тому), что своих творческих целей этот мастер добивается даже по меркам своего времени крайне скупыми средствами. Такой барочный минимализм. Вот стоило мне написать эти строки – и я страшно распалился немножко проиллюстрировать свои слова. Концерт, который мы исполняли, потрясающим образом составлен из ничтожного количества мелодического материала: всего-то Эта короткая попевка служит «стройматериалом» для тем 4-х частей, тоже крайне лаконичных: По меркам Вивальди-Генделя тематизм архикраткий. Тем больше интенсивность развития (масштабы частей как раз вовсе не кратки). Впечатление просто потрясающее. К тому же - эмоциональное состояние, редкое для барокко, скорее ренессансное. Его можно определить как «стремительно, но с достоинством». Этакая старая Англия, почему-то отдающая Испанией... Это и другие произведения можно будет услышать на концерте «Барок-консорта» 17 октября (плюс-минус) в Малом зале Филармонии. Плюс к тому, что уже перечислилось (I отделение) там ещё будет «Air Lamento» Иоганна-Кристофа Баха (старшего брата Иоганна Себастьяна). Учитель (как ни парадоксальна такая постанова вопроса, но с Бахом-лейпцигским только так и можно) вполне достоин своего ученика). Ещё будет славянская музыка эпохи классицизма. Ограничиваемся двумя авторами: Иосифом Мысливичком (Прага) и Дмитрием Бортнянским. Концертную симфонию последнего я недавно кончил редактировать для нашего ансамбля. Дело в том, что её состав (орган, арфа, фагот и струнные) для нас очень неудобны: нужно зазывать музыкантов со стороны, а наших будет задействовано мало. Но поскольку в то время существовала практика собственных оркестровых версий (на тот состав, которым располагал определённый maestro di capella), нем было поручено подвергнуть её следующим изменениям: струнные – четыре голоса свести в два (v – no, v - C), вписать партию флейты (главным образом за счет первой скрипки) и пересмотреть партию органа (вообще-то в Гатчине стоял органный клавир – куда это, интересно, он оттуда подевался? Бортнянский играл на нём сам, а придворные ему подыгрывали кто во что. Отсюда такой странный состав и обилие органных соло. Наш скрипач взбесится: он по натуре солист, меня считает континуистом, то есть человеком подневольным, а тут ему придётся аккомпанировать мне!)… так вот, пересмотреть партию органа в расчете на клавесин. Хоть орган там и есть, но он, во-первых, электрический, а во-вторых, в современном строе (а все флейты, гобои и струнные у нас в строе С = 415 Hz). Пришлось бы зверски транспонировать. В Aria lamento куда ни шло, там только нужно тянуть долгие ноты и немного несложно солировать, а тут игры дай боже… И потом – звучание клавесина в нашем составе даже более желательно: не так плотно, но зато куда активнее. Перекладываем также Air lamento (я вписываю в партию органа консорт виол, которого нет ни у нас, ни у кого другого во всём городе). Вот эти дела меня и удерживают ныне в городе. Вернее, в пригороде. Я сейчас пребываю в имении моих предков (х-ке!) в Карташевской, что за Гатчиной, близ тех мест, где вы были как-то на первом курсе, когда я поступал. Там ещё вплотную занимаюсь той штукой с тремя флейтами. Подвигается. Вчера закончил вторую часть, а сегодня уже набросал начало третьей (и последней). Со мной ещё так никогда не бывало: строчу и не оглядываюсь, будто кто гонится. Совсем как Мишка Журавлёв, всю жизнь меня презиравший за излишне критичное отношение к своему материалу. Что-то у меня чем дальше, тем всё более не похоже не то, что я писал, учась в консерватории. Меня это весьма озадачивает. Хотя вот на этот как раз нужно глядеть проще. Наездами в город поддерживаю контакты с джазменами. Играют ребятки сейчас каждый по отдельности просто замечательно. Но несколько неуверенно по ансамблю. Занесло в иную сторону. Что ж, будем работать. Что ещё говорить? Да так, в общем, нечего. Жду вестей от тебя, ещё более – твоего появления. У кого-то в письмах получается лучше общаться, чем наяву. У меня нет. Это письмо, положа руку на сердце, тоже не удалось. Но – лучше пока не получается. Уж не взыщи. Самых лучших тебе пожеланий и впечатлений от новых мест. И – пиши. Не забывай. Ну, кажется, всё. Tibi exime – твой Володя".
Год 1986-й, август
Его письмо мне А в ответ на моё послание я получил в Бухаре обширное письмо от Володи, написанное в конце лета – начале осени. Как это здорово, что оно дошло, выжило и лежит теперь передо мной! Ещё издали, подходя к пункту выдачи писем, я увидел в ящике с отделениями, где раскладываются конверты, картинку в знакомом стиле на одном из них: кости с черепом и надпись «Не вскрывай, убьёт!» И сразу понял: это – мне! В письме, где в концентрированном виде уместилось множество разнообразной информации – музыка, литература, личные наблюдения и т.д., – он подробно описывал свои летние путешествия. К сожалению, в полном одиночестве, жалобы на которое у него нет-нет да и прорывались (складывалось ощущение, что люди боялись иметь с ним дело – может быть, из-за необычной внешности и непривычной манеры общения? – а он тогда от этого страдал…) Поэтому в начале текста чувствуется его нескрываемая радость: «Ну и удружил же ты мне своим письмом, дружище! В Закарпатье я бы не успел тебе отписать – не надеялся на надёжность тамошней, а также латвийской почты. А твоего адреса в Бухаре я не знал. А так было бы интересно, думаю, пообщаться за то-другое, за жизнь. Тем паче, что со времён нашего странствия – и не пытайся мне возражать! – я чувствовал с твоей стороны некоторое отчуждение и охлаждение – почему? В честь чего? От моих или твоих проблем? – видит Бог, мне этого не хотелось. Ну да чего там перебирать старые хвори – нужно жить дальше… Так что это письмо я принимаю, как весьма добрый знак. Попал он ко мне под весьма «твоё» настроение: когда у меня на столе появилась книга Германа Мелвилла «Моби Дик» (дивное, ни с чем не схожее сочинение; по сюжету – описание похода китобойного судна, капитан которого жаждал сразиться с Великим Белым Китом Моби Диком (огромных размеров кашалот, совершенно белый, похоже – бешеный, сатанински хитрый и злой (естественно, только в том случае, если его задирали), всеми китобоями того времени считался неземным существом, воплощением злобы – и именно с воплощением Зла, а не с редким экземпляром из любви к искусству охоты желал сразиться капитан); – по стилю – в иных условиях могущий быть сочтён нереальным сплав морского романа-путешествия, научного трактата по цитологии, лирических стихов – и проповеди!), книга мироздания; а в такт на этом фоне вертелась лента с записями группы американского саксофониста Пола Уинтера, основателя и классика удивительного направления в современном джазе – экологического джаза. К слову сказать, он весьма нетрадиционен, но мне кажется, что тебе он был бы близок. Удивительная музыка – в которой слышен весь наш мир! (своеобразная проекция на джаз исканий Чарльза Айвза). Кстати, такая вот музыка Мироздания (в меньшей степени), литература Мироздания (где китюга Моби Дик – только повод, ключ к разговору о мироздании) – свойство чисто американское. Они не носят свой мир в себе, как европейцы, а растворяют себя в мире (Северяне, художники Новой Англии – южный Фолкнер и прочие, ему подобные, в эту плеяду не идут, не идёт и Драйзер, и Джек Лондон, и Синклер Льюис – при всей моей любви к ним…). Но я, кажется, отвлёкся...» Далее следуют описания летних поездок, до которых он всегда был охоч. В этих описаниях видна немалая наблюдательность автора и интерес его ко всему окружающему – к людям, пейзажам, городам. Обращают на себя внимание его оригинальные сравнения в повествовании о тех местах, где довелось побывать: «Ты спрашиваешь меня о лете. Как я его провёл? К середине лета я смирился с мыслью прожить его, не уезжая. Но вдруг опознался наш с тобой старинный друг Миша Пащенко и стал меня звать в дельту Волги. Однако, как великолепно ни было это задумано, нашлись обстоятельства, помешавшие этому: в солидной пащенковской машине не нашлось для меня места. К тому же рыбак и охотник я дрянной, и по склонности характера, и по физическим данным, а они ехали именно по дичину. И вдруг колыхнулось во мне давнее желание – и как-то нечаянно оказался у касс Варшавского вокзала, в очереди за билетами на Ригу… Да не тут-то было! Желающих было навалом, а поезда только два. (Говорят, что в наплыве народа на Ригу повинна Чернобыльская авария; для тебя это повод к гневной речи против «второй природы»; заранее зная, что ты скажешь, отвечу (не для того, чтобы возразить, но дабы ты знал моё мнение): энергия не исчезает (и не зарождается), а только меняет форму… Не реактор, так какая-нибудь Этна рванула бы…) Факт в том, что их было ужас как много (желающих). На исходе ночи какой-то елейный старик из области Видземе подсказал мне ехать львовским поездом до Пыталово («Лишь бы попасть в Латвию, а там уж до Риги – в два счёта!») Послушался сего мудрого советчика (чтоб ему…), приехал на следующее утро в Пыталово – и с ужасом обнаружил, что ближайший поезд на Ригу пойдёт аж через 12 часов! Хорошо ещё, успел вцепиться в тот же львовский и катнул до Резекне. Там после 3-х часов бесцельного шатания по городу пролез всё же в автобус «Великие Луки – Рига» и к вечеру был в Юрмале, где тут же посчастливилось за 2-50 в сутки (на Юге это считается умеренная плата, а здесь так и вовсе дешёвка!) сторговать аж отдельную комнату… Видел Ригу – красивейший город, очень напоминающий наш Питер, только впереворот (левым берегом Риги является правый берег Даугавы – как, поймёшь ли ты такой странный афоризм? Подсказываю его смысл – сходство меж Ригой и Ленинградом). А сходство и вправду фантастическое. Ленинград заметно моложе, и Старый город заметно ỳже наших Манежного поля, Смольнинского района, Петроградской стороны и Новой Голландии – но всё равно Городовой остров провоцирует на сходство со Старым городом, Петропавловка – на Рижский замок, улицы Ленина, улицы Горького очень меж собою схожи. И люди похожи на питерцев. Правда, заметно хуже нас ориентируются в своём городе – именно этим, а отнюдь не оголтелым национализмом (за этим езжай в Эстонию или, в крайнем случае, в окраины Жемайтин (бывшую Жмудь)) можно объяснить миниатюру Жванецкого о той женщине в рижском трамвае. Домский орган (большой; а теперь там есть ещё и малый) похож на наш капельский, но больше. А ещё одно из серии несходств, но приятное несходство: Рига представляет собой Ленинград без метро! Это меня очень порадовало. Видел я и Таллин, и, знаешь, после Риги показался он мне дырой! Правда, красивой дырой. Видел старые видземские горы близ Сигулды, где из почти отвесных стен горизонтально растёт лес! А если забраться на высокую гору, или на верхний этаж Турайдского замка, то почему-то кажется, что не забрался вверх, а опустился на дно огромной котловины-воронки. Такая там чудовищная рефракция. Видел мило-провинциальные Резекне, Екабспилс и Тукумс (последний переплюнул всё, что я видел доселе, кроме разве что Усвят, своим отставанием лет на 100-150). Видел Юрмалу и её забавно-смешные потуги казаться северной Флоридой. (А зачем ей быть второй Флоридой? – она так хороша и в качестве Юрмалы первой и неповторимой). Ещё к своим летним впечатлениям могу прибавить лишь поездку в Старую Ладогу (увы, один, не дождавшись никого из тех, с кем бы я желал эту поездку разделить (и тебя в том числе), потому – сухим путём, отказав себе в возможности ехать рекой), замечательный «джазовый пароход», шедший до Невских порогов, затем в залив и назад, и бесчисленное множество велопробегов (увы, также одиноких) по Гатчинскому, либо Зеленогорскому районам). На этом, увы, всё». Письмо изложено характерным бисерным почерком, при этом я обратил внимание на такую вещь во всех его письмах: чёткую логику в знаках препинания и симметрию в скобках. Внутри одних скобок (охватывающих иногда значительную часть текста) вставлены другие, в составе тех встречаются и третьи – но всё это строго попарно, ничто не упускается. В этом можно углядеть параллель с музыкой барокко, которая отличается ясностью и симметрией формы.
Год 1986-й, сентябрь
Его письмо (продолжение) Получил я володино письмо уже в сентябре, когда началась его работа. Меня тревожило его здоровье, о чём я и спрашивал его. На это Володя отвечает: «…Чувствую себя неплохо, но, по обыкновению, одиноко. Так что письму твоему очень рад. Не скрою, твои проблемы меня очень тревожат. То, что тебе там, на Оке, хорошо - это я, можно сказать, чувствовал… по твоему молчанию оттуда. Когда кому-то где-то хорошо, ему очень трудно подниматься на письма. И то, что ты побыл вблизи желаемого – залог того, что Бог даст, не в последний раз. Из-за чего ты оттуда ушёл? Тяжело физически? Хворал? Или что? Признаться, из того письма так и не понял. Насчёт работы подобного рода у нас – даже не знаю. Был у меня через экспедиционные знакомства выход на одного орнитолога – да весь вышел… Всё-таки интересно, как ты – теперь, обогащённый новым опытом – представляешь себе свою жизнь? А почему сорвалось в Крымом? А какие у тебя планы? А… не слишком ли я много задаю вопросов? Сколько сочтёшь нужным ответить - всему буду очень рад. Что до Сергея – узнал – и ужаснулся! На целых три года лишиться его общества! (А по милости твоих проблем – так и четыре набирается!) Если знаешь его адрес и молчишь – то делаешь очень большую гадость. Не знаю, как ему, а мне так точно… Но всё же это жуть. Как-то он там… (прочитал второй раз, наконец-то дошло, что год ему отдали…)» В своём августовском письме я рассказывал Володе о грампластинках, которые удалось накупить во Львове (в нём мы съехались тогда с сестрой Светой – она из Ленинграда, я из Симферополя). Ведь в каждом городе, куда бы меня ни заносило, я первым делом бежал искать магазин грамзаписей. На этот раз из классики попались в хороших исполнениях Шуберт, Брамс, Шостакович и одна необычайно интересная пластинка, можно сказать – уникальная: с минусовками оркестрового аккомпанемента ре-мажорного концерта Гайдна и ля-мажорного (23-го) концерта Моцарта. Предполагалось выпустить, как следует из сопроводительного текста, целую серию подобных пластинок под общим названием «-1» – для того, чтобы пианист мог ставить их на проигрыватель и играть под оркестр; но на этом первом выпуске начинание заглохло, он же стал и последним. Дирижёром данной необычной оркестровой записи стал Александр Корнеев, которого до этого мы знали лишь как флейтиста. Об этой львовской пластинке я и написал с восторгом Володе. Сейчас, когда нас окружает цифровая музыка, и можно поэтому с лёгкостью управлять записями (включать-выключать лёгким прикосновением пальца, настраивать звуковысотность и пр.), те манипуляции с проигрывателем, которые прилагались в виде инструкции ко всей серии «Минус один», и которые необходимо было проделывать, дабы играть под него, представляются слишком громоздкими. Например, в каденциях требовалось снять звукосниматель с пластинки, где имелся для этого, как написано, «проворот», причём оставить его строго на том же месте, а перед её окончанием опустить обратно (ну и как всё это проделать самому во время игры?), дабы игла снова вписалась в этот самый «проворот». Перед началом же игры требовалось подстроить звуковысотность записи под свой инструмент, а такая функция (то бишь изменение скорости вращения) имелась далеко не в каждом проигрывателе. Но если её не было, в этом случае пришлось бы перенастраивать своё фортепиано! Не это ли имели в виду производители, когда давали в начале записи чистый звук «ля» (440 Гц)? Решение остальных проблем – это уже мелочи: «Сольные эпизоды сопровождаются ударами метронома 1 раз в такт»; «Фермата считается как дополнительный такт», «До вступления солиста метроном отсчитывает 2 такта»… Концерт Моцарта я учить «поопасился» (разве что рискнул попробовать поиграть в паре с проигрывателем его знаменитую 2-ю медленную фа-диез-минорую часть), потому что, во-первых, Моцарт – самый трудный для исполнения композитор, а во-вторых, Света уже играла его тогда «в паре» с Вирсаладзе, мне такой технический уровень был недосягаем. Поэтому я сразу «отдал» вторую сторону пластинки ей – пусть-ка теперь поиграет 23-й концерт под минусовку, нечего задавливать свою индивидуальность (к сожалению, эта задумка потерпела в реальности полный крах). А вот концерт Гайдна загорелся выучить, все три его части. И теперь, живя в санатории «Ситора-и-Мохи-Хоса», я по ночам пробирался в большой кинозал соседнего здания, где стоял довольно сносный рояль «Эстония», и часами учил его вовсю, о чём и извещал Володю (из-за огромного количества блох, живших в ковровом покрытии зала, мне приходилось сидеть за роялем в больших полиэтиленовых мешках на ногах). Всё это я говорю к тому, что теперь по поводу разучивания фортепианной партии ре-мажорного концерта Гайдна мой клавесинный друг давал в письме весьма дельные и важные советы: «Довольно занятный вариант эта фонограмма оркестровой партии в концертах Гайдна и Моцарта. В работе над этим горячо мною любимым произведением прошу учесть, что произведение это предназначается для клавесина, со всеми вытекающими осложнениями. С необходимостью ровной динамики, необходимостью долго держаться в одной динамике, а если изменять, то не плавно, но уступом, террасообразно: не PP – P – mP, а PP, P, mP. То есть начинать играть тише или громче разом. А если уж и вилки, то микроскопические. Такие клавесин позволяет. Далее: поскольку клавесин превосходит рояль в точности и тонкости штриха, то твой штрих должен быть особо чёток; поэтому старайся играть суше и отчётливее (при этом не отказывая себе в тембре, в разных вариантах касания). А зато качать темп туда-сюда (разумеется, сколь это допускается оркестром) ты можешь, сколько душе заблагорассудится». Как видно из письма Володи, он продолжал серьёзно заниматься клавесином. Уже не только сольно, но и ансамблево. И теперь приглашал, как и Свету Ветлову в письме к ней, на выступление их молодого содружества – да не где-нибудь, а в самой Филармонии: «Очень буду рад видеть на концерте в Малом зале филармонии 17 октября. Там будет играть ансамбль старинной музыки «Барокко консорт», в коем я имею честь принимать участие, разыгрываю генерал-бас на клавесине, а если будет фурыкать тамошний орган, то и на органе тоже». Но особенно ценным в письме было то, что наконец-то Володя откровенно делился уже и со мной своей работой над композиторскими опытами, а это случалось у него довольно редко (наверно, я опять спрашивал его об этом, не помню уже всего своего письма). Он всегда скромно полагал, что не достиг ещё достаточного мастерства в сочинении музыки. И хотя желание вступить в Ленинградское отделение Союза композиторов у него было, он всё же стремился туда не слишком активно, даже как-то вяловато, по-прежнему считая себя недостаточно готовым для этого. «Состояние работ такое. Концерт для трёх флейт, клавесина и струнных никак не хочет кончаться. Фортепианная соната, начавшаяся в Латвии, ни в какую не продолжается. Меж ними лежит на боку наполовину написанный «Калиф-аист» («Лебединое озеро» № 2; я уж думал, что заказчики уже забыли о том, что мне его заказали, а они вдруг затеребили меня: дескать, давай-давай, жми, сроки трещат. Ну, я и сам затрещал). Подходы мои к ЛОСКу всё ещё затруднены. Ну да ничего: хоть время и идёт, зато материал копится, а это лишний залог успеха. Между клавесином и сочинением изредка поигрываю в джаз; может статься, что на ближайших «Осенних ритмах»… впрочем, тьфу-тьфу-тьфу… Не будем загадывать заранее. Всяко может повернуть». Насчёт джаза я писал Володе, что искал записи Бейси и Питерсона – из тех, что он давал мне слушать на магнитофонных плёнках, – но нигде не нашёл; видно, их ещё не выпустили на виниле, буду ждать. Он отвечает: «С Каунтом Бейси и Оскаром-Эммануилом Питерсоном должен тебя малость огорчить. Такая пластинка уже выходила. Частью она есть у меня в записи, у меня её всегда можно послушать. Питерсон пианист куда более техничный, чем Бейси (тот не то, чтобы не может, но сознательно обходится очень малым, играет намеренно скупо), играет там примерно в 8 раз больше нот; но когда Уильям «Каунт» Бейси («Каунт» (Count – граф) – всего лишь прозвище-титул, так же, как Эдуард «Дюк» (герцог) Эллингтон) извлекает из своего инструмента два-три – но зато божественных! – звука, этот гонщик по клавиатуре немедленно никнет и тушуется. Но он также музыкант очень хороший. И дуэт у них хороший, недаром они его так часто возобновляли. А у нас здесь тоже завёлся какой-то интересный джаз: саксофонист Эрни Уилкинс, звезда джаза мировой величины происхождением из России – трубач Герман Лукьянов со своим бэндом; замечательная подборка джазовых ансамблей Польши - одной из самых джазовых стран Европы. Ну да чего там: приедешь - сам увидишь. И «Осенние ритмы» обещают быть интересными: с участием Лукьянова, Раубишко, Розенбергса (Раубишкина партнёра, трубача), Страуме (ещё один рижский саксофонист, также пишет и симфоническую музыку), Ханнеса Цербе (пианиста из ГДР), Голощёкина, Костюшкина, Зуйкова… и (кто знает?) меня. Если этого не произойдёт, что ж: плакать не будем. Так что нам ещё будет о чём подумать и поспорить. На сим прощаюсь.Всего доброго! Твой В.Р.» Что до других грампластинок из приобретённых летом и меня впечатливших (о чём я и поделился в письме), то были здесь старинная клавесинная музыка, джаз и даже рок, к хорошим образцам которого приобщал меня потихоньку тот же Володя. Поэтому к своему письму он приложил ещё один листок, на котором отвечал по поводу этих записей: «Appendix (post scriptum). Что такое «Воспоминания» Чекасина – право, не знаю. Очевидно, записано это было уже с новым составом (Чекасин-Молокоедов-Шинкаренко-Лавринавичюс)? Сие – результат качественного роста Вильнюсского ансамбля совресенного джаза под управлением В.Ганелина, приведшего к его количественному росту: группа превратилась в две… А Чекасин нонече заделался главным дирижёром и солистом Вильнюсского биг-бенда… Если вдруг увидишь в Москве оные «Воспоминания», попытайся дать мне знать… Что за зверь Феликс Готлиб в клавесине – для меня было весьма внове, что он туда сел. Фразировка у него, увы, осталась фортепианная и романтическая. Но звук, по счастью, даёт неплохой. Когда она у нас появлялась, одновременно с ней продавалась та же музыка (Klavierübung-III) в исполнении Ханса Плинера – ну, я и предпочёл… Под пластинкой «Арсенал» (по своему стилю этот коллектив тогда именно так и назывался; ныне то, что именуется джаз-роком, покололось внутри себя на два направления: блюз-рок (ближе к року) и фьюжн (англ. «Fusion» - сплав), ближе к джазу и академической музыке. Ну, и если послушать, то видно, что это совсем не тот «Арсенал», что писал «Своими руками») – так вот, под этой пластинкой и разумею «Башню из слоновой кости». Последняя композиция крайне интересна. Сейчас они пишут новый диск, под названием «Электро-Арсенал». Увлечение А.Козлова театром в своих последних программах нахожу чрезмерным и идущим в ущерб музыке. Но всё равно очень уважаю эту команду». Ну, и повторная концовка письма выглядит как большая Coda: «Что там, в Бухаре, за книги? Просьб и пожеланий особых не очень-то получается. Однако, если вдруг там мелькнёт этот самый пресловутый «Моби Дик», и будет такая возможность им разжиться – то купи себе, а если хватит суммы, то и мне. Ну, и разве если что-то моих любимых Ремарка или Лескова. Под звуки экологического джаза Пола Уинтера завершаю своё послание. Типовых пожеланий повторять не стану – Vale, amico, жму твою мужественную егерскую руку. Kibi eximo, carissime! P.P.S. Когда напишешь Сергею (а ты не позволишь мне этого сделать раньше себя, уж я-то тебя знаю), то со всеми моими наилучшими пожеланиями передай также, что Г.И.Банщиков написал ещё одну сонату Шарову. P.P.P.S. Какие у меня могут быть претензии к твоему стилю!? Восхищаюсь и преклоняюсь. А вот Света Ветлова, профессиональный языковед, убила бы меня за «кухонную латынь» в конце. Кстати, привет от неё…» (Крупнейший баянист современности Олег Иванович Шаров – кумир Сергея, преподаватель Консерватории, ныне заведующий кафедрой баяна и аккордеона в ней. Специально для него писали и посвящали ему свои произведения многие композиторы, в том числе четыре сонаты для баяна написал Геннадий Иванович Банщиков, о котором ещё скажу чуть ниже).
Год 1986-й, октябрь
Джаз и барокко И вот наконец-то мы снова встретились после шестимесячного перерыва! 9-го октября я вернулся домой из долгих странствий, а на другой день мы с Володей уже спешили на джазовый концерт, который вёл, как всегда, блистательный музыковед Владимир Фейертаг – невысокий и картавый, но с великолепным чувством юмора и со столь же великолепным знанием джазового искусства во всех его направлениях и проявлениях. Современные джазовые пианисты выступали чередой в том самом Концертном зале у Финляндского, где год назад мы слушали Игоря Бриля. В этот раз мне особенно понравился эстонский пианист Рейн Раннап. Через пару дней я даже купил появившуюся на прилавках в ту осень пластинку с его импровизациями и переписал на магнитофон с телевизора одно из его выступлений (а его пьесу «Серенада кукушки» записал со слуха нотами и попытался сделать обработку). Правда, Володе, когда я поставил ему у себя дома эту пластинку, сей музыкант сначала не слишком-то «поглянулся»: – Это же просто общее место, это ещё не джаз. Но он прослушал по сути только начало первой импровизации. Позднее, дослушав до конца, он отозвался о пианисте более благосклонно. Чуть позднее я случайно увидел по телевизору комическое выступление московского пианиста Михаила Альперина, который пародировал джазовых музыкантов, том числе Раннапа – да так остроумно, что в зале все покатывались со смеху. А ярчайшим впечатлением того месяца стал первый большой концерт обновлённого ансамбля «Барокко Консорт» в Филармонии – тот самый концерт, на который и приглашал Володя нас в своих письмах. Случилось это 17 октября. В тот день музыканты исполняли музыку малоизвестных старинных авторов Пепуша, Буамортье и Мысливечека, а также более известных – Букстехуде, Телемана и Иоганна Кристиана Баха. К моей радости, не обошлось и без отечественно композитора – того же Дмитрия Степановича Бортнянского. Именно по инициативе Володи в концерте дважды прозвучала его музыка. Но лучше меня расскажет об этом выступлении сам Володя. Вот отрывок его письма к Сергею: «Какие новости у меня? Ну, это верно, забурел командор. Описание моего дебюта в М.З.Ф., полагаю, было в одном из посланий нашего общего друга, присутствовавшего при том героическом моменте, когда я, стиснутый в плечах фраком с чужих плеч (дебютантам из века собственных не положено), сбитый с толку торжественностью всего происходящего, напуганного грозным видом нашего руководителя А.Ю.Кискачи, готового выпрыгнуть на сцену эдаким тигром-Акбаром и шептавшего мне до последнего всевозможные воодушевления типа: «Лажанёшься – не сойти тебе, падла, с места», подталкиваемый в спину другим своим партнёром А.М.Файном, солистом-многостаночником, стахановцем от музыки, недавно по собственному почину освоившим плюс к родному фаготу ещё и гобой, да ещё к тому же и барочный (а внешность и осанка у него сходны, пожалуй, с оными у Карла Маркса, – сходство разительное, так что вырваться было невозможно), наконец, взашей вытолканный на сцену и сопровождаемый толчками и пинками до клавесина – точной копии инструмента Антонио ванн Рюккерса (для справки: мастер, занимающий среди клавесинных мастеров такое же положение, как Страдивари среди скрипичных) – взглянул в зал и узрел там около 500 различных глаз, как будто бы различая добрые, сочувственно-влажные глаза друзей, как бы говорящих: «Что ж, сейчас ты облажаешься, это неизбежно – так вот, наши сочувствия и соболезнования мы тебе заранее гарантируем», – взыграл всю программу, длившуюся противу обыкновения около 3-х часов, включающую в себя произведения Джона-Кристофера Пепуша (Англия), Жозефа де Буамортье (Франция), Иоганна-Кристофа Баха, Дитриха Букстехуде, Георга-Филиппа Телемана (Германия) и Дмитрия Бортнянского (Россия) – так вот, понеже ты имеешь подробное описание этих (столь сладостных моей душе) событий в письмах нашего общего друга, считаю излишним долго о них распространяться. (Ну как, достоин ли ученик (я) учителя (в данном случае тебя)?)» Последнее предложение намекает на литературный стиль писем Сергея. Вступительное слово перед концертом произносила Наталия Бондарчук. Она рассказала о становлении ансамбля и его участниках, о западной и русской музыке XVII и XVIII веков (абсолютно не помню, но в недавно откопавшемся очередном своём письме Сергею в армию – да, действительно, я описывал ему этот концерт – нашёл я такие слова (и как же любили мы в молодости писать друг другу вычурно и с претензией на юмор!): «Многословная Натали увлеклась до того, что в конце концов её прогнали со сцены, прервав затянувшийся спич дружным хлопаньем в ладошки; зачинщиком сего злодейства стал, как мы с обеими Светами успели заметить, композитор Борис Тищенко: это он подбил на оное окружающую его знакомую публику, коя по-детски веселилась, глядя, как Бондарчук позорно ретируется со сцены под злорадный плеск аплодисментов»). Сильное впечатление произвёл ансамбль певицы Марины Филипповой и Володи, аккомпанировавшего ей («Прекрасно смотрятся вместе!» – не преминула заметить Света-сестра). Да, конечно, были на этом концерте и мои друзья Жанна Краснова со Светой Ветловой – у этой последней на другой день мы все собрались по случаю дня её рождения. Была за столом беседа о свежих фильмах (помню, мы поспорили с Володей о фильме «Прости», который успели посмотреть и отнеслись к нему по-разному; что удивительно, мне удалось склонить его к своей точке зрения, больше отрицательной), затем о так называемых бардах: Окуджаве, Розенбауме, Дольском. Володя сказал, что всем им предпочитает Визбора. А с 21 по 26 октября он снова уезжал в Вильнюс, чтобы поучаствовать в конкурсе джазовых пианистов. На этот раз ему удалось занять второе место! Мы все искренне радовались за него. «Ну и дела творятся в нашем Питере! То джаз, то “Barocco” – Володя резвится вовсю. А где я? Досадно, чёрт побери!» – писал из армии Сергей. Вечером 27 октября я собрался поехать в Лекторий. Благодаря свободному пропуску у меня был выбор из трёх наиболее для меня интересных лекций: одна посвящалась Летнему саду, другая русской лирике 19-го века (Веневитинов, Баратынский, Языков, Вяземский), а третья галереи Уффици во Флоренции. Решил определиться уже в дороге. Только оделся и открыл дверь, как зазвонил телефон в прихожей. Володя! – Пойдём в Малый зал! – Прямо сейчас? – Да! К нам в город приехало уникальное явление. – Какое? – Оно называется Эрик Курмангалиев! Контр-тенор. – Что это? – Голос такой, редчайший. Мужской, но как бы и женский. Диапазон у него три с половиной октавы, представляешь? От СИ большой октавы до ФА третьей! – Вот это да! Ладно, еду. – Встречаемся у входа. Так что поехал я со своей Гражданки хоть и тоже в центр города, но в иную сторону – не на Литейный 42, а на Невский 30, то есть в Малый зал имени Глинки Ленинградской государственной Филармонии имени Шостаковича. Да, тот концерт запомнился! Поражал прежде всего необычный тембр голоса певца, данный ему от рождения и всё-таки отличающегося от женского контральто в первой и второй октавах своей насыщенностью, вибрацией и красками. Голос гибкий и изящный. Зал ломился от публики, несмотря на понедельник! Многие стояли у стен. Выступал уникум в первом отделении. Он пел арии Генделя и Перголези. Основная часть народа шла именно «на Эрика», так что в антракте треть зала схлынула. А во втором отделении была музыка ещё двух композиторов – Чарльза Айвза и Анатолия Королёва! Володя хорошо помнил, как весной мне понравился Айвз. Да и сейчас его Третья симфония оставила сильное впечатление. А вот музыку нашего земляка Королёва, который тоже учился у В.И. Цытовича несколькими годами раньше Володи, я совсем не понял. Не дорос, наверно. Рядом с нами сидели на соседних креслах композиторы Владимир Сапожников и Александр Смелков. После концерта прогуляли с Володей по городу до ночи, благо поезда метро тогда ходили аж до половины второго. Он говорил, что появился у него замысел «скрестить» Эрика со своим старинным ансамблем (что вскоре и произошло, они даже выступали в том же филармоническом зале, то есть Курмангалиев пел с «Барокко Консортом»; однако Володя потом едва ли не пожалел об этом сотрудничестве, настолько «тугим» для понимания исполнения старинной музыки оказался, по его словам, Эрик). Вот таким интересным и насыщенным оказался для нас октябрь 1986 года.
1) пластинка с импровизациями эстонского джазового пианиста Рейна Раннапа; 2-3) Программка выступления ансамбля "Барокко Консорт" 17 октября в Филармонии; 4) певец Эрик Курмангалиев; 5-6) Программка концерта Э.Курмангалиева 27 октября.
Год 1986-й, ноябрь
Джаз-кафе и «Два Ивана» 4-го ноября Володя повёл меня в интересное место – джазовое кафе у Пяти углов. В тот вечер там играл ансамбль Михаила Костюшкина. Он был ярким явлением в джазовом мире. – Ансамбль этот за время подпольных занятий вырос до уровня лучшего ансамбля города! – сказал мне Володя, чтобы ввести в курс дела. – В этом кафе собираются исключительно знатоки джаза, и здесь его по праву оценили: он даже выйдет на нынешние «Осенние ритмы»! Многие в кафе оказались знакомыми Володи (в том числе и Пётр Корнев, с которым он музицировал в прошлом и позапрошлом ноябрях на джем-сейшнах). Мы сидели за столиком, пили кофе с мороженым и слушали джаз. Было довольно уютно. Но внезапно уют этот был нарушен приехавшим из «Джаз-клуба» телевидением. Операторы понаставили всюду свои яркие лампы и принялись снимать выступление ансамбля Костюшкина, а попутно и нас, зрителей. Не знаю, что там получилось в итоге, я эту передачу так и не увидел. В финале посиделок, то есть в третьей их части, вновь намечался джем-сейшн, когда все желающие смогли бы подниматься по очереди на эстраду и показывать своё джазовое мастерство. Но из-за приезда телевидения вся программа оказалась скомканной, и джем-сейшн отменили. «Что ж, плакать не будем», – сказал Володя, как помнится, в своём летнем письме по поводу возможного своего участия (точнее, неучастия) в «Осенних ритмах». Возможно, и в этот раз он произнёс что-либо подобное. Кстати, «Осенние ритмы» в тот ноябрь пришлось мне слушать в основном по радио и смотреть по телевизору. Их передавали, пока шёл фестиваль, ежедневно. Ездить в ДК Капранова на этот раз было недосуг, да и билеты были по-прежнему "кусачими". А о нашем визите в джаз-кафе Володя сам поведал Сергею в начале того самого письма, где он рассказывает о выступлении в Филармонии. Это, кстати, его самое первое письмо к Сергею в армию, потом их было ещё несколько. «Ну нет! Не надейся! От меня не уйдёшь! Хоть наш добрый (а может, и недобрый) приятель лишил меня ещё на год (плюс к СА) общения с тобой, да ещё и строчил тебе письма, не сообщая мне твоего адреса, я недавно, затащив его в гнусный притон, гнездо пороков и разврата, именуемый джазовым кафе «Восток» (”Eastern”) и опоив до потери вменяемости джазом, спиртным, опиумом и всем, что ещё в подобного рода случаях полагается, с воистине макиавеллиевским коварством (смотри заключительную сцену фильма С.Эйзенштейна «Иван Грозный») выведал у него твоё нынешнее местоположение». Далее он тревожится за судьбу Сергея, оказавшегося в госпитале из-за «дел сердечных»: «Признаюсь, несколько встревожен твоим нынешним положением. Что-нибудь серьёзное? Как твоё самоощущение и самосознание? Госпиталь – штука малоприятная, слов нет, однако у этой скорбной медали – чего уж там – есть одна-единственная оборотная сторона, выражающаяся в виде народной мудрости следующим образом: «Солдат спит, а служба идёт». Куда ты угодил? Я пытался оные сведения вытянуть из Михайлы, но – ты же знаешь оного субъекта, от него добиться толкового слова невозможно (и не только тогда, когда он пытается увернуться от прямого вопроса, прикидываясь шлангом (об этом его обыкновении ты знаешь), а ежели и наоборот). Не зная специфики военной службы (зане бракован) и не желая как-то ненароком прищемления больных мест совершить, увещеваю тебя ныне: пиши, о чём сочтёшь нужным (да только если уж сочтёшь, так обо всём без малейшего изъяна!). Не скупись на расспросы, спрашивай о чём пожелаешь. Это полезно зело есть даже в отношении того, чтобы, всякий раз садясь за стол и берясь за стилос, не приходилось бы мне надумывать: а как покажется моему умудрённому другу и внимательному корреспонденту моё рассуждение о текущем состоянии льнодобывающей и льнообрабатывающей, к примеру, промышленности в Тофуславском районе? Ино говоря, не будешь ли ты рисковать вывихнуть челюсти от зевка, читая мои эпистолы? Короче, условие единственное: не молчи! Non silenti, как говорили древние (да простит меня потенциальный магистр в области язакознания Света Ветлова (заведшая себе по этому поводу профессорскую шапочку на немецкий манир) мою кухонную латынь!) Письмо предваряется по обыкновению эпиграфом, которые Володя сколь угодно мог вынимать из своей безбрежной памяти: «…Был разбужон в 5 часов утра номером нашего еженедельника, скрученного на манер бумеранга, который влетел в окно, нанёс ощутимые повреждения люстре, напугал младенца и в довершение всех зол подбил хозяину глаз…» (Ф. Брет Гарт) А заканчивается парой анекдотов: «…Ну, лучших тебе пожеланий. Пока. Твой – Вовка. P.S. Анекдот в качестве эпиграфа – ничего. Но, однако, пошлю тебе ради разнообразия, в качестве постскриптума. Итак, где-то в Оксфордшире шёл человек по лесу. Тут слышит: «Извините, сэр, уделите мне минуту внимания – отвяжите меня от дерева». Глядит – лошадь! Говорящая. Разговорились. Лошадь меж делом рассказала, что-де Оксфорд кончала. На прощание указала дом хозяина. Разыскал – пристыдил: «Что ж вы так со своей выдающейся лошадью, воспитанницей Оксфорда, обращаетесь?» Ответ: «Она, верно, вам заливала, что говорящая? Врёт!!.» И другой. Пишет Василий Иванович диссертацию. Подходит т. Фурманов. «Что пишешь?» – «Диссертацию». – «Тема?» – «Способы толчения воды в ступе». – «Кто ж так научные труды называет? Пиши: ”Технология коллапсирования жидкости в резервуированном сосуде“». В.И. переклеивает лист, дописывает, смотрит – Петька-пулемётчик тоже что-то пишет. «Что пишешь, Петя?» – «Диссертацию». – «Тема?» – «Клавишно-духовые инструменты в быту православного духовенства». – «Сам придумал?» – «Не, т. Фурманов». – «А как было?» – «На фига попу гармонь». (Предмет тебе, народнику, близкий). Нет, сколько раз убеждаешься: анекдот в записанном виде – не анекдот, а чушь. Опять же не серчай!..» На очередной день рождения друг мой, изменив на этот раз своему обычаю дарить мне в грамзаписи старинные либо джазовые произведения, подарил пластинку с самой что ни есть современной академической музыкой. На одной её стороне была записана моноопера Игоря Рогалёва «Жалобная книга» по раннему рассказу Чехова. Того самого Рогалёва, с которым год назад мы ездили на Финский залив. А на другой – «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Геннадия Банщикова. Ясное дело, по повести Гоголя. Геннадий Иванович Банщиков, как и Игорь Ефимович Рогалёв, и сейчас преподаёт в нашей консерватории. Володя высоко ценит его как композитора. Банщиков учился композиции у Бориса Арапова, которого застал Володя и тоже поучился немного у него, ещё до Тищенко. Оба они переняли то, что называется теперь ленинградской-петербургской композиторской школой, включающей в себя академизм и сдержанность музыкального языка, без излишних «модерновых» вычурностей. Г.И.Банщиков угодил Володе ещё и тем, что единственный из ведущих тогда ленинградских композиторов написал крупное произведение для клавесина (к сожалению, пока мало известное). Володя был на премьере «двух Иванов», которая состоялась в Малом зале Филармонии ещё 5 февраля 1984 года в присутствии автора, и с воодушевлением рассказывал тогда об этой постановке. А теперь дождался и пластинки с ней! Между прочим, опера посвящена Рихарду Штраусу, который оказал огромное влияние на Банщикова, но это уже отдельная тема. Володя признавался мне, что и сам подумывал написать оперу на этот сюжет, но Банщиков его опередил. Лишь только собрались у меня остальные гости – Света и Жанна (Сергей, к сожалению, уже четыре месяца служил на Крайнем Севере, так что было нас в квартире, включая родителей и сестру, семь человек), мы тут же водрузили диск на проигрыватель и стали слушать. После небольшой оркестровой увертюры, уже очерчивающей характеры главных героев, прозвучали слова Ивана Ивановича в исполнении тенора Виктора Лукьянова: – Осторожно, Иван Никифорович, не ступайте сюда ногой, ибо здесь нехорошо! (Не дословно по Гоголю, но это в опере допускается). Нас очаровали сочные и яркие образы, переданные достаточно понятным (вопреки моим опасениям) музыкальным языком. Так мы прослушали всю оперу, длящуюся недолго, примерно полчаса. Володя особенно восхищался находкой композитора в сцене ссоры. В своё время сам Банщиков говорил ему, что они специально искали исполнителя басовой партии Ивана Никифоровича с подлинным малороссийским выговором. Им оказался Михаил Калиновский. После того, как он произносит «протокольным» голосом: «А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!» (с мягким «г») – следует «полная тишина в течение пяти секунд», как указано в партитуре, которую автор оперы показывал Володе. А затем – грохот литавр на «фортиссимо», растерянные попевки у духовых и пение шёпотом Ивана Ивановича с повышающейся интонацией: «Что… вы… сказа-а-али?». – Ведь «гусак» – по сути, главное слово во всей повести Гоголя, ключевое! – говорил Володя уже за столом. – Люди ленятся читать между строк. Поэтому часто это страшное оскорбление «гусак» объясняют всего лишь тем, что Иван Никифорович говорит: «Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?!» Вот этим будто бы и объясняется слово «гусак» – маханием руками, словно крыльями. Даже в книгах и рецензиях такое разъяснение встречается. Ерунда! Не стал бы Иван Иванович смертельно обижаться, если б дело обстояло именно так. На самом деле всё гораздо тоньше, сложнее и глубже. Сами посудите: в начале повести об Иване Ивановиче говорится, что он «никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих», но при этом он им не подаёт! С другой стороны: «Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится». Вот вам и весь человек тут: живёт только для себя, эгоист и жадина. Однако ещё раньше, в самом начале повести, говорится о Гапке (судя по имени, девке из дворни): «Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу». С чего бы это? – чужим не даёт, а Гапкиным детям хоть понемножку, да отстёгивает. Значит, имеет к ним отношение! Вот вам и «гусак» – намёк на незаконных детей. Да и другие намёки на это разбросаны по всей повести, надо только уметь читать. Например, в прошении Никифоровича написано о Гапке, что она "беззаконная девка", а её дети в повести называют Ивана Ивановича "тятей". На монооперу Рогалёва «Жалобная книга» ("моно" – то есть с одним-единственным солистом в лице великолепного Сергея Лейферкуса) у нас уже не осталось времени, я слушал её позднее. А в тот вечер после чаепития Жанна и обе Светы принялись просить меня показать им фильм о моей работе в заповеднике. Там я действительно поснимал немного своих питомцев-журавлей на 8-миллиметровую кинопленку, которую теперь и «покрутил» своим гостям с помощью кинопроектора. Очень впечатлились они редкими видами журавлей, которых больше нигде в нашей стране не увидишь. А когда я провожал Володю с девушками к метро «Академическая» (станция была построена за 10 лет до того), он всё продолжал говорить о повести Гоголя: – Часто её название пишут и произносят неправильно: «…Как поссориЛИСЬ». Это грубейшая ошибка! У автора: «…Как поссориЛСЯ». Нужно именно так! Тут важно отношение самого Ивана Ивановича к слову «гусак». И вообще в повести этой открывается целый мир, видны исторические параллели... Вновь убедился я, как превосходно знал Володя русскую классику (впрочем, как и зарубежную), как безошибочно цитировал её. 



9 ноября 1986-го: Володя дома у автора (рассказывает об опере Банщикова) с Жанной и двумя Светами, подаренная им пластинка и композитор Г.И.Банщиков. После концерта в Филармонии на «Барокко Консорт» посыпались приглашения. Ансамбль выступал всюду, где только успевал – и в городе, и в пригородах. В том числе в Гатчине и Киришах. Я не ленился мотаться за ними повсюду, а в Кириши (поскольку ехать туда электричкой было почти два часа) посчастливилось мне прокатиться вместе с музыкантами в их заказном автобусе, наполненном инструментами и костюмами – разумеется, это было организовано не кем иным, как Володей. Побывав в Гатчине, где «Консорт» играл в одном из только что отреставрированных залов Большого Гатчинского дворца (в зале этом – о радость! – оказался превосходный немецкий клавесин, выполненный по лекалам Рюккерса), он захотел уже специально поехать туда – так же, как мы ездили с ним гулять и в другие загородные места. И вот в одно из воскресений мы отправились. Так получилось, что к нам присоединились сначала Жанна Краснова, а затем и Света Ветлова. И раз уж поехали в Гатчину вчетвером, да ещё я сподобился прихватить с собой кинокамеру, то решили снять в Гатчинском парке художественный фильм, в котором участвовали бы всей нашей компанией. В электричке бурно принялись обсуждать сюжет, и даже отчасти набрасывали его на листочке из блокнота. В основном, конечно, инициативу в сочинении проявляли Володя с Жанной. Постепенно у наших сценаристов вырисовывалось нечто вроде триллера-сказки (тогда слова «фэнтези», кажется, ещё не существовало; всего сюжета не помню, но в письме к Сергею я назвал это «романтическим остросюжетным приключенческим ужастиком с элементами магии и волшебства»). В нём фигурировали две героини – положительная и наоборот (первой была блондинка Света, второй брюнетка Жанна), простоватый неуклюжий главный герой (Володя) и силы зла – Мефистофель и некий юный лорд (роли которых достались мне, к тому же я как раз кстати захватил с собой свою любимую маску Мефистофеля – тёмно-коричневую, страшную, с крючковатым носом). Таким образом, нарисовались два положительных героя и три отрицательных. Фильм снимали в развалинах старого замка. Припоминаю, как носились мы в проёмах окон второго этажа и по обветшавшим перекрытиям, как Жанна напускала злые чары (чему послужил чёрный дым), а я душил лежащую в снегу Свету (в тот момент, возможно, и начало зарождаться моё чувство к ней, через два с половиной года завершившееся браком), как прибегавший с луком и стрелами Володя спасал её, вызывал меня брошенной перчаткой на дуэль и убивал из мушкета. Кинокамера так и перелетала из рук в руки к тем, кто был свободен в данный момент от актёрства. Конечно, с 8-миллиметровой плёнкой, да ещё без звука, не очень-то развернёшься, но по мере возможностей я пытался использовать какие-то спецэффекты в сценах колдовства – те, что позволяла камера: с растворением в воздухе, обратной съёмкой и прочими «прибамбасами», которые теперь, в век компьютерной обработки видеоматериала, представляются наивными. Весь световой день ушёл у нас на сотворение этого шедевра. И всё бы закончилось прекрасно, если бы на обратном пути я не забыл в электричке сумку со всеми отснятыми киноплёнками и своей любимой маской. Это меня, конечно, сильно подкосило. Пытался потом искать утрату через Бюро находок, вставал в 5 утра и ездил туда – всё тщетно. Сохранился только маленький кусочек этого фильма на той плёнке, что осталась в киноаппарате. Да ещё описание сюжета в письме Володи к Сергею, написанном по свежим следам, в тот же день: «Гораздо более интересно будет тебе узнать о другом событии, имевшем место быть нонече днём в Гатчине. Я-таки уговорил нашего приятеля открыть страшную киностудию, специализирующуюся на съёмке фильмов ужасов. После долгих споров (Что это будет? – вестерн? детектив? что-то другое?) решено было отснять романтическую историю в духе Анны Рэдклифф. Содержание следующее. Место действия – романтические развалины замка. К замку пробирается некий Чарли-золотоискатель (я) с расчетом найти в нём зарытое там сокровище. За ним следит некая «серая кардинальша» (Jane). Видя мою (т.е.Чарли) целеустремлённость, начинает с того, что обольщает меня (т.е.Чарли). Чарли едва было не поддался, но вдруг из воздуха материализовалось привидение с распущенными золотыми волосами: тень убиенной леди (Света Ветлова). Она отторгает Чарли от «серой кардинальши» и рассказывает ему свою историю (она была зверски задушена своим племянником лордом-оборотнем, имеющим порою дело с сатаной (Миша)). Просит отомстить – Чарли ничего не имеет против. Альянс I. «Серая кардинальша» с лордом-оборотнем тоже заключает альянс II. «Серая кардинальша» оборачивается убиенной леди (всё то же, но волосы тёмные; эдакая Одиллия) и завлекает Чарли во власть лорда-оборотня, который предстаёт в сатанинском обличье. Чарли борется с сатаной и чуть не берёт верх, но тут налетает дьявол женского пола (опять же Jane) и умерщвляет его. Но, хранимый своим добрым гением, мёртвой леди, оживляющей его, Чарли мстит лорду и отрывает клад. «Серая кардинальша» меж делом застреливается. Судьба оного страшного фильма была бы страшно успешной, если бы по возврате из Гатчины оператор (Мишель всё тот же) не посеял в электричке весь отснятый материал. Так что первый блин – O Weh! – комом». Вечером 19 декабря был небольшой концерт ансамбля «Барокко Консорт» во дворце Кшесинской. А на другой день, в субботу 20-го, Володя сделал мне роскошный подарок, доставивший огромное эстетическое наслаждение: взял с собой на репетицию «Барокко Консорта», проходившую в одном из помещений Ленконцерта. В итоге я провёл там целый день! Потому что после репетиции в зале осталось три человека, захотевшие продолжить общение со старинной музыкой: Володя, я и флейтист Александр Файн (вообще-то он играет на многих деревянных духовых инструментах – кларнете, фаготе и других, которые в данном случае были бы неуместны). Володя аккомпанировал ему на клавесине. «Фактурный» бородатый Саша Файн, действительно похожий на Карла Маркса (молодого, потому что чернобородый ещё) забавно смотрелся с малюсенькой блок-флейтой пикколо в руках. Но играл он на ней прекрасно! После двухчасовой репетиции в течение ещё целых четырёх часов мы (то есть они, конечно, «пахали», а я сидел рядом и переворачивал Володе ноты) переиграли множество флейтовых сонат Марчелло, Телемана, Вивальди, Кастелло и всех Бахов. Это было незабываемо! Володя научил меня многим хитростям и особенностям в исполнении музыки барокко – таким, например, как игра с едва заметной задержкой первого, ударного звука в мелодии и качанию ритма внутри общей метрической организации. Отдельное внимание он уделил "люфту", то есть небольшой паузе (нем. "luft" – воздух) перед заключительным аккордом произведения. Потом я ещё чуть ли не с час под чутким руководством Володи осваивал клавесин, читая с листа уже игранные произведения, после чего мне удалось перепробовать по очереди все находившиеся рядом музыкальные инструменты – от шикарного рояля «Стейнвей» до литавр. В очередной раз Володя, как теперь говорят, «сделал мой день». А назавтра «Консорт» выступал в Доме Кино. Приятно было слушать уже знакомую и более понятную после репетиции музыку Буамортье, Кастелло, Лефлотта и Марчелло. В самых последних числах декабря мы уехали с сестрой Светой за Полярный круг, в Печенгу – навестить Сергея Васильева, служившего там уже полгода. Мы активно переписывались с ним всё это время, чтобы поддерживать, а с осени к переписке с ним подключился и Володя. Привезли другу его любимый аккордеон «Вельтмейстер» с двумя отвалившимися буквами в названии на боку и кучу нот, дабы ему легче служилось. И не могли наговориться за те несколько дней, что провели вместе. Сергей беспрестанно слушал приехавшие с нами записи старинной музыки, по которой он изголодался за эти полгода службы, в том числе в исполнении «Барокко Консорта». В Печенге мы и встретили новый 1987 год. Вот так я напутешествовался в 1986-м – от Рязанской области, Западной Украины и Крыма до Средней Азии и Крайнего Севера.
Год 1987-й, январь
Мороз, Юсуповский дворец, выставка в Гавани и письмо Сергею 4 января мы вернулись в Ленинград. В тот месяц в городе около двух недель стояли страшные морозы, доходившие до минус 37. А в Заполярье, куда мы ездили в шубах, да ещё набрали кучу разной тёплой одежды, стояла во время нашего приезда оттепель! Музыкальная библиотека на Охте, место наших постоянных посещений, закрылась из-за мороза. Пришлось повариться в собственном соку, без новых нот и без слушания новой музыки в фонотеке. 9 января мы ходили в Мариинский театр на «Мазепу» Чайковского. Впечатление осталось, конечно, ярчайшее. А 10 января «Барокко Консорт» играл в Летнем саду – конечно, не на улице, как это случалось летом, а в Петровском домике. Помню, что в тот раз я передал Володе ноты ре-мажорного концерта Бортнянского, которые купил накануне в нотном магазинчике под Домом книги. Володя мгновенно загорелся этим произведением и с упоением аранжировал его для своего ансамбля, который затем часто его исполнял. А на следующий день, 11-го января, «Барокко Консорт» играл в Юсуповском дворце, что явилось началом регулярных выступлений ансамбля в этом замечательном месте. Его руководитель Саша Кискачи договорился с руководством, что они будут играть в конце экскурсий по дворцу, парадные залы, театр, гостиные и исторические комнаты которого в то время открылись для посещения. А после осмотра этого роскошного здания (Юсуповский дворец считался самым богатым в Петербурге) экскурсантов вели в небольшой концертный зал, где они слушали музыку XVIII века, дополняя этим полученные только что знания о той эпохе. Дворец этот знаменит тем, что здесь в 1916 году был убит Григорий Распутин. После этого назначение здания много раз менялось: в нём был историко-бытовой музей, затем дворец был передан работникам просвещения; был здесь и Центр творческого досуга интеллигенции, а позднее Дом учителя. Сейчас он вновь известен как Дворец культуры работников просвещения. Игра в Юсуповском дворце станет для ансамбля традицией. Эти выступления стали частью того факта, что в нём, как пишет энциклопедия, «в 1990-е годы сформировался в многофункциональный историко-культурный центр, соединяющий просветительскую, экскурсионную, выставочную и концертную деятельность». Продолжал Володя переписываться и с заполярным Сергеем. При этом жаловался ему в шутливой форме, что я не извещаю его оперативно о новых сергеевых армейских адресах, якобы из ревности (но я, естественно, делал это не намеренно, а по безалаберности). В конце декабря он писал: «…Признаюсь, после твоей машинописи и твоего блистательного стиля мне даже стыдно за свой почерк и за качество бумаги: вот уже две недели, как я хвораю, никуда не выхожу и всю бумагу в доме извёл. Этим же объясняется и некоторая задержка: читать письма при температуре 39,8 было ещё туда-сюда, а вот писать, что слова, что ноты (это меня особо угнетает; я сейчас пребываю в стадии крутой непрухи) не получалось. Ниточка силлогизмов продолжается. Тот факт, что письмо пришло ко мне именно в такой момент, не мог меня не «согреть»; так что письму твоему я особо рад. Рад тому, что оно дошло, несмотря на… О, какой коварный ков со стороны нашего amico, такому дипломатическому акту, полагаю, позавидовала бы Софка Цербетиха, она же Катька Гольштейн (Романова (якобы)), императрица всея Руси. Или какой-нибудь другой ухищрённый мерзавец. Ибо когда я увидел индекс на конверте, у меня глаза на лоб взъехали! Впрочем, далёк от мысли подозревать оного индивидуя в какой-либо сознательной деятельности. Тем паче в подрывной – после того, как он единственный из всех, кто хватился меня, когда я вдруг исчез из мира, позвонил и, что меня особо умилило, позвонил не по делу! – а то все остальные сначала справлялись о моём здоровье, а потом что-то из-под меня тянули (кроме тех, кто действовал наоборот: сначала дело, а потом разное). Возвращаюсь к вышеизложенному, обстановка, в которую добрым вестником впорхнуло твоё письмо, как нельзя более способствовала моему восприятию. Весьма был обрадован твоим стилем. Стиль весьма хорош, и ты напрасно его шугаешь. Повторю всё ту же мысль, кою тебе очень часто повторяем в две глотки с Михаэлисом: по-моему (сиречь по-нашему) тебе всерьёз нужно этим заняться. Из этого может выйти кое-что весьма неслабое. Разумеется, при условии приложения некоторых сил с твоей стороны, ибо алмаз красив только тогда, когда у кого-то возникает желание им заняться. Хотя, собственно, чего говорить, если нет желания, к чему давить на обладателя алмаза». – Я торчу от его стиля! – признавался Володя после получения писем. В этом же письме он тревожится о будущем Сергея и развлекает его «Байками от “Консорта”»: «…По твоему стилю, настроению и умосостоянию могу заключить, что там, где ты ныне пребываешь, у тебя есть возможность оставаться самим собой. Поэтому – навязчивые вопросы. Первый: насколько реален твой шанс остаться в оной Печенге и на какое время? Я, разумеется, понимаю, что госпиталь есть госпиталь. Но в твоём письме (ежели я, разумеется, понял его тем, чем следует, сиречь головой) склизнула мысль о следующем роде деятельности: организация концертов, участие в них, организация ансамбля (даже шла речь о каких-то деньгах на организацию команды: кстати, какой: народного оркестра? рок-группы? брасс-бэнда?)» «Эпизод с пистолетами весьма занимателен. В свою очередь, сообщу историю, как Файн вызывал такси для «Консорта» (главным образом, для клавесина) к Университету (там у нас был концерт). Когда диспетчер спросил по телефону его фамилию, тот, нимале сумняшеся, скорчил плутовскую рожу и ответил: «Товстоногов». – «Это неправда, у тов.Товстоногова есть своя машина!» – заверещала трубка. Файн нагло продолжает: «Видите ли, Г.И. несколько перебрал…хм…и за руль сесть боится». Короче, через три минуты (!) диспетчер звонит и спрашивает: «Товарищ Товстоногов не обидится, если машина будет не очень новая?» Поскольку Сергей резво умел строчить на пишмашинке, замполит поручал ему иногда перепечатать некоторые книги по системам оздоровления К.Бутейко, Г.Шаталовой, П.Брегга и других авторов, имена которых стремительно входили тогда в нашу жизнь. Он и сам, как натура увлекающаяся, в некоторой степени поддался этим методикам и пытался увлечь ими Володю. Но тот имел свою точку зрения на такие вещи: «…Однако, ну и книжицу он тебе подкинул в распечатку! Вот уж воистину – стоит ваша Печенга на самом краю света, и всякие модные головобзики доходят туда с пятилетним опозданием! Ещё лет пять назад нация (понимаешь, какая) чуть было не вымерла с голоду, начитавшись этого талмуда. \...\ Есть целая наука (на мой взгляд, лженаука, во всяком случае, наука реакционная, материалистическое мракобесие) за именем геронтология. Сводится она к нескольким системам, суть которых, в свою очередь, сводится к одному: пей то, не пей другого, жри сё, не жри сего, думай о том, а не о сём, живи так, а не иначе – и, бог даст, проскрипишь до ста лет. К числу патологически вредных веществ, наряду с солью и табаком, все эти системы в один голос относят творчество. А этот Брегг тоже заляпал себе такую систему, по которой тщился дотянуть до ста двадцати. К слову сказать, для претворения своего детища в жизнь ему понадобился… необитаемый остров, на коем ему единственно можно было вне социальных катаклизмов, войн, НТР и прочего создать себе стерильный образ жизни. Но одного «врага» он всё же не предусмотрел на своём чудо-острове. Остров-то стоял в океане! И вот в возрасте, кажется, 88 лет этот Брег (Брэдд)…утонул… Грешно, конечно, над такими вещами ехидно усмехаться, но ей-ей, немедленно вспоминается гражданин Корейко с его мечтами пережить социализм с восемью миллионами под кроватью. А если серьёзно, то жратва тут, разумеется, ни при чём, но я яростный противник всякого стерильного образа жизни. Человек есть человек только до тех пор, пока он живёт полной жизнью, делает дело и по крайней мере в мыслях един с другими, себе подобными, живёт делами своего Человечества, своего умного Мироздания. Подозреваю выпад Михаэлиса: «А что тут плохого в стерильном образе жизни? А что, отшельники – это преступники против человечества?» Его, может быть, книга Брега и убедила бы. Но мне куда глубже и волнительнее представляются слова преподобного аббата Джона Донна: «Смерть каждого из людей гнетёт меня, ибо я един со всем человечеством, потому не спрашивай, по ком звонит колокол – он звонит по тебе…» Кстати, если вдруг попадутся тебе в руки стихи этого священнослужителя, рекомендую ознакомиться надлежащим образом. Что до отшельников – не удержусь, выпишу одну любопытную мысль, кою я намедни вычитал в лесковском цикле «Праведники» в притче «Памфалон-скоморох» (литературная переработка библейской притчи): «Если был бы на прежнем месте наш прежний правитель Ермий, то он, как человек справедливый и милосердный… не допустил бы этого; но он очудачел: оставил свет, чтобы думать только об одной своей душе! Жестокий старик! Пусть небо простит ему его отшельническое самолюбие!» А ниже, устами самого Ермия: «Птицы вьют гнёзда на скалах, человек же должен служить человеку» (от себя добавлю: вне зависимости, рекомендует ли это система Брегга. К тому же ино дело отшельничество из-за души, из-за Бога, ино дело отшельничество из-за пуза. А живя в людском мире, невозможно соблюсти даже части бреггова учения, касающейся еды. Да и думаю, суть куска горячего мяса, или основательной проездки на мотоцикле (доктор тоже не рекомендует), или работа – роли болезненной сами по себе не играют, собака зарыта значительно глубже. Дело не в том, что делать и чего не делать, а в том, как можно жизнью сократить существование. Можно долго существовать, не живя. Можно долго жить. А можно и обратить жизнь против самого себя (жизнью убить жизнь, жизнью вызвать смерть). И ещё одно зело уязвимое место всех этих систем, начиная от хатха-йоги: они все рассматривают абстрактного человека, а таких не бывает. Каждый человек суть нечто неповторимое, таково моё убеждение… ) Да что это я? Нашёл о чём говорить – о системе! Да стоит ли она того? Короче, с повторным призывом «Non silenti» перехожу к ответам на вопросы". Далее Володя рассказывает об образовании «Барокко Конкорта» (это я уже цитировал), а затем – что весьма ценно! – рассказывает о судьбе своей оперы «Рассказ на могиле» по повести Н.С.Лескова «Тупейный художник», которую автор играл мне прошлым летом (наверно, мне как-то удалось передать Сергею свой восторг от того июньского прослушивания, потому он теперь и интересовался у автора его детищем): «Мечтаю вступить наконец в Союз (процедура эта страшно долгая, но ни надежд, ни оптимизма я не теряю, глядишь – и выгорит) и пошлю оное Колпино подале! С оперой штука вышла такая. До Покровского она так и не добралась. Т.е. была выслана в Москву, но с полпути была затребована назад. Что за «нафиг»? Оказалось, в городе завёлся свой Покровский, один из меньшИх дирижёров Кировского театра, мечтающий «сляпать» при нём ещё и камерный театр. А понеже Оля Петрова (не Андреевна), написавшая мне либретто, которое я не взял, была всё же заинтересована в оном сочинении, а дирижёр был заинтересован в ней, то сочинение перекочевало к нему (и партитура, и клавир, и запись). Год они там тихо пролежали. Наконец, очевидно, дирижёр как-то утром решил поставить чайник в комнате, что-то под него сунул, оказалось – опера! Или: что-то тяжёлое ахнуло его по кумполу, упав со шкафа. При рассмотрении оказалось оперой. Короче, уж и не знаю, что там вышло, но он вдруг позвонил Оле (уже уехавшей к тому времени из Ленинграда, и оказавшейся дома случайно) и объявил, что он загорелся… По этому случаю он вызвал меня к себе домой, заставил проиграть (и пропеть… о моё горлышко!!!) оный опус никак три раза, а потом заявил: «Ну что ж, будем ждать случая!» Вот я и жду случай. А что, вдруг выгорит?!.. Чем сатана не шутит… Когда надоест ждать впустую, опять толкнусь к Покровскому…» 24 января мы ездили с Володей и Светой Ветловой в Гавань к Морскому вокзалу на выставку-продажу художников-абстракционистов. Не совсем легальную, но тогда как раз начиналась перестройка, стало вдруг всё можно, и наиболее прыткие поспешили этим воспользоваться. Ездило на выставку в те дни, несмотря на морозы, огромные количество народа, очереди были длиннющими. Столь же огромным было и количество ярких до пестроты, кричаще-возбуждающих и даже бьющих иногда по нервам картин и других экспонатов-инсталляций. Некоторые художники собирали вокруг себя народ и пытались разъяснить свои принципы. Володя просто разглядывал в предельной близи некоторые картины (при своей близорукости он не мог охватить их все разом, как мы), а Света из нескольких тысяч картин выбрала только четыре, которые, как она сказала, приобрела бы для дома, будь у неё материальные возможности. Почти невозможно обойти все залы, слишком много их было. Тем не менее наткнулись в толпе на Мишу Журавлёва. А потом ещё побродили по Васильевскому, насколько позволил мороз. Сергею, конечно, это посещение было нами подробно описано. Но сохранилось, к сожалению, лишь три из примерно десятка писем, посланных Володей на Кольский полуостров. Первое за 1987 год датировано 17-м января. Оно предваряется по обычаю несколькими эпиграфами. В двух из них Володя безошибочно цитирует отрывки из романа Скотта Фицджеральд "Ночь нежна", что очередной раз делает честь его памяти. Далее следует текст самого письма: «Всякие вести от тебя меня неизменно радуют, ежели они не содержат яростных перемен к худшему. Мне так показалось, что нет. Разве что описание игры в шеш-беш между КСФ и СА. Оные организации знай себе бодаются и бодаются по всякому поводу, а равно и без повода. Честно говоря, я не особо просёк, чем оные варианты для тебя чреваты. Ассоциация, разумеется, непристойная, но не удержусь: шёл эдак лет 15 назад такой аглицкий фильм за именем «Агент поневоле» (кажется, после этого доступ к нам английских комедийных фильмов прекратился). Одного романтического наивного парня, короче, «сундукявичюса», англичане завербовали в контрразведку и сунули в Германию «на дело». Там ситуация смоделирована по мотивам «Швейка» (парень действительно простоват, а его простоту воспринимают, как двойную игру). Там его с лёту, увидя в нём необычайный шпионский дар, завербовал Канарис (лично); вернул его в Англию (попутно он выполнил задание), оттуда его заслали обратно (походя он выполняет задание Канариса), а там гестапо его вербует, он влезает во внутренние контры гестапо и абвера (меж делом выполняет задание для англичан), а потом продаёт англичан с головой абверу и гестапо, при этом умудряясь столкнуть эти две могучие организации лбами, так что шухер достигает самого фюрера (попутно – и английскую королеву). Короче, в тот момент, когда в представлениях политиканов обеих сторон он превращается в некоего шпионского монстра, ворочающего судьбами держав в собственный интерес (а то и в собственное удовольствие), он садится в самолёт и летит в Бразилию. Но тут с одной стороны подлетает «харракейнра», а с другой «мессершмит», и оба лётчика, не сговариваясь, совместными усилиями топят несчастный самолёт; причём англичанин сообщает своим, что уничтожил опаснейшего немецкого резидента, а немец – что убрал английского. Агент, спрыгнув в воду с парашютом, узнаёт об этой истории по радио… Но тут - !!!... Не успевает он приводниться, как прямо из-под него всплывает американская подводная лодка, а на мостике завязывается потасовка между представителями ЦРУ и ФБР: кому вербовать «гения разведки»? – Но это порядка шутки». После этого пересказа автор слегка «сцепляется» с адресатом по вопросу йоги, которой Сергей тогда на время увлёкся: «Стиль твоего письма меня приятно щекотнул ещё одной, ранее мне неизвестной тонкостью. Э, да ты, оказывается, кусаться умеешь! После того, как ты меня «подавил мощью замыслов» по части моего скептического отношения к йоге, мне остаётся только пойти в ванную и сделать себе вивисекцию по-римски. Если в «Диспуте» Гейне мне участвовать в качестве брата Йозефа, францисканца, а ты был бы вместо раба Иуды, недолго я сохранил бы своё христианское достоинство… Хотя один аргумент из своих я смею оставить непобитым (пока): молитвы, посты, воздержания, медитации, отшельничество, – всё это хорошо во имя Бога, а во имя пуза – как-то жалко. Потом: у людей, искусственно уравновешенных, всегда наблюдается schwach по части способности творить (только не коли мне глаза Рабиндранатом Тагором или там Бхартрихари; я имею в виду людей западных, к коим и нас, грешных, причисляю). И потом: я ничего не пытаюсь отрицать, а лишь принять или не принять. Хотя последнее уже сильно отдаёт капитуляцией, позволь мне всё же остаться при своих козырях. И всё же: а) типовых систем нет, отсюда: в) всякий человек в состоянии (из)обрести свою систему, с помощью которой он может идеально владеть собой, необязательно при этом заимствовать чужую. Наконец, заключение: никакое рациональное дыхание, или рациональная еда, или гашиш – не заменит глотка воздуха утром в ещё не отогревшемся лесу… Кстати, не думал, что оно способно так тебя захватить… Ну да будем надеяться, что ты не уподобишься адвентистам, которые считают идеологическим подвигом перекрестить в свою веру ортодоксального православного, или евангельского христианина, или лютеранина, ну там, католика или какого-нибудь молоканина (коих уже не осталось, должно быть, вживе). Йоги в моём представлении – это что-то несколько умнее трясунов, но явление одного с ними порядка». Вероятно, ранее Володя и Сергею писал, как и мне, об увлекшем его «Моби Дике»: «То, что в прошлом письме я столько внимания уделил этому несчастному «погибшему под волной», была моя ошибка. Не карай меня, пожалуйста, слишком сурово за неё». Далее он отвечает на вопросы о деятельности «Барокко Консорта» и продолжает повествование о перипетиях своей оперы «Рассказ на могиле»: «Что до «Консорта», то ежели оно было бы так, как говоришь, не было бы беды. Однако – махонький нюанс: ребятки эти сошлись не все из любви к музыке – иные, и таких поболе, из любви к себе. На японский манир. Просто по капризу судьбы они все оказались к тому же неплохими музыкантами, и потому временами то, что они делают, убеждает. По части «Рассказа». Ни одна опера со времён П.И.Чайковского, имевшего блат в царской цензуре и управлении Императорских театров – не имела лёгкой судьбы. И если это сочинение не спеша обрастает союзниками – не вижу в этом ничего худого. Плюс к тем, что уже есть, заинтересовались люди из Пушкинского дома, которые занимаются Лесковым. Там, глядишь, что-то и выйдет. Что касается оперы о том, как пишется опера (со всеми последствиями в виде реализации) – то такое уже есть. Композитора Рихарда Штрауса произведение, за именем «Каприччио». Так что тут мы с тобой так же опоздали, как с продолжением «Штирлица» (имею в виду сюжет «Экспансии», сочинённый как-то нами за праздничным столом в квартире нашего общего друга, в порыве вдохновения, весьма разогретого застольной атмосферой). Правда, Семёнов вряд ли додумается до Штирлица, в качестве американского военного советника возглавляющего здоровенную ораву душманов где-нибудь в Пакистане на полигонах… Хотя в таком разрезе Штирлицу должно было быть уже много лет; об этом мы как-то не подумали. Кстати, насчёт Штирлица. Был у нас недавно в колпинской музыкально-приходской лектор-общественник, ругал оный фильм за то, что не внушает должного омерзения ко всем врагам… Что ж, режиссёру нужно было поставить всю актёрскую группу «на четыре» и заставить лаять? И ещё, как он говорил, «слишком много положительных немцев…целых три»… Ну, знаете ли, это уже всерьёз отдаёт Гарри Труманом, который «молится богу Эйбому, зачем-то покаравшему джепов…» Так-то вот… «Колпинская музыкально-приходская» – это детская музыкальная школа № 23 в Колпино (ныне школа искусств имени П.И.Чайковского), где Володя одно время преподавал. Последняя же цитата – отсыл к «Звёздным дневникам Ийона Тихого» Станислава Лема («Путешествие двадцать шестое»), которым мы все трое в то время увлекались. И напоследок – напутствие: «Не злоупотребляй, пожалуйста, своим кусачим даром, не береди во мне мысли о харакири (кстати, харакири не входит ли в перечень асан и пранаям? Как радикальное средство моментального достижения нирваны?)»
Год 1987-й, февраль
Репино и Сестрорецк К моей пущей радости, в тот сезон было много концертов «Барокко Консорта». Весь февраль и март я слушал эти выступления, проводившиеся примерно раз в неделю. В основном проходили они в Юсуповском дворце. А потом удавалось иногда «прошвырнуться» с Володей по городу до метро «Сенная» или «Невский проспект». Иногда шли мы с Мариной Филипповой, певицей. Каждое такое посещение давало положительный заряд на много дней вперёд. Кроме того, старинная музыка слушалась и дома. Сергей оставил мне перед уходом в армию множество своих пластинок – Вивальди, Марчелло, Корелли, Телемана. Но особенно мы с Володей любили слушать соль-минорный концерт Максима Березовского и французский шансон в исполнении «Хортуса». В воскресенье 15 февраля мы поехали вдвоём в Репино – с целью вновь прогуляться вдоль залива. В то утро радио передало известие о кончине композитора Дмитрия Кабалевского, поэтому я спросил Володю, пока ехали в электричке: – Слыхал, Кабалевский умер? – Конечно. Но о мёртвых хорошо или ничего, – сухо ответил Володя. – Пожалуй, – согласился я, помня его высказывания о Дмитрии Борисовиче. – Хотя у меня к нему сложное отношение. Когда-то я пел на уроках вокала его «Десять сонетов Шекспира», они мне очень нравились. Детские пьесы у него тоже интересные. А вот Программа его, которую мы изучали в педучилище – это ой-ёй-ёй! И я рассказал, как мучили нас все годы учебы в педагогическом училище этой «Программой по музыке для общеобразовательных школ», над которой работал под руководством Кабалевского чуть ли не целый институт. Навязла тогда она нам всем в зубах, как и эти его знаменитые «три кита в музыке» (песня, танец, марш). Мы обязаны были знать названия всех её поурочных тем. Учитель Виктор Соколов, который преподавал у нас эту Программу (ныне хороший, кстати, детский композитор) выпаливал эти названия, как из пулемёта: «Между-музыкой-народов-моей-страны-и-музыкой-народов-других-стран-не-существует-непереходимых-границ» – и т.д. В общем, пока учились, мы эту Программу терпеть не могли. А вот сегодня, на фоне повального бескультурья, она как раз выглядит светлым пятном. Были ведь в ней, как теперь понимается, и значительные плюсы, несмотря на справедливую критику многих ведущих музыкантов. Помимо программы Кабалевского, была не забыта в тот день и культурная программа: раз уж поехали в Репино, то как было не зайти очередной раз в «Пенаты»! Но этого нам показалось мало – и в ближайшую субботу 21 февраля, которую власти объявили выходным днём, мы с Володей продолжили наш поход и прошли одним махом от Зеленогорска аж до Сестрорецка, 23 километра. Почти столько же, сколько тогда, в марте позапрошлого года, когда ездили в Петрокрепость. Лёд Финского залива был покрыт рыбаками. Мы любовались глубокой синевой неба, заходящим солнцем и одновременно восходящей луной. О чём в тот раз беседовали – не помню, но в одном из моих писем Сергею нашлась коротенькая запись об этом походе: «Вчера недурственно с Володькой прошвырнулись. Говорили умно». А 26 февраля Володе исполнилось 26 лет, и я подарил ему «Силуэты» Нагибина и «Воспоминания» Панаевой – те самые две книги, что специально купил для него минувшей осенью в Бухаре и припас для этого случая.
Год 1987-й, весна
Бахи, кленовая флейта, его сочинения и поездка в Царское село 17 марта и 9 апреля «барочники» выступали в Юсуповском с уникальной программой: играли музыку исключительно Бахов, то есть произведения всего семейства – самого Иоганна Себастьяна, всех его четырёх сыновей, его старшего брата и его дяди Кристофа Баха. Так они обыгрывали программу, с которой в мае собирались выступить в Филармонии. Большой бородатый Саша Файн со своей коротенькой блокфлейтой по-прежнему смотрелся комично. Но инструмент у него, изготовленный из светлого дерева, звучал божественно! Когда я сказал об этом Володе, он с гордостью поведал: – Дело здесь не только в мастерстве Саши и его музыкальности. Флейту эту изготовил ему на заказ в Японии из цельного куска клёна один тамошний мастер-старик. Уникальный умелец! – Вот почему у неё такой особый яркий звук, который перекрывает весь ансамбль и парит над ним! – Да. И это неправда, что блокфлейты звучат тихо, потому они будто бы в итоге и уступили место в оркестре поперечным флейтам, как пишут в книгах по истории музыкальных инструментов. Надо просто уметь на ней играть! – У Сашиной флейты тембр особенный: серебристый, и даже какой-то сказочный – тут другого слова и не подберёшь. Никогда такого не слышал! – Открою тебе секрет. Дело в том, что японский старик сделал внутреннее отверстие не круглым, а восьмигранным! Обычно его просто высверливают, а он умудрился особыми пилочками придать сечению восьмиугольную форму. Представляешь, какой это труд? Зато теперь поток воздуха идёт очень сложным путём, отталкиваясь от стенок и отражаясь в противоположных. От этого появилась масса новых обертонов. Потому и окраска звука такая – как ты говоришь, сказочная! Володя тогда много сочинял. К концу зимы он закончил ещё одну (!) фортепианную сонату, на этот раз одночастную. 18 марта он исполнял её дома у Светы Ветловой в присутствии трёх слушателей: самой Светы, её мамы Галины Петровны и меня. Впечатление осталось почти такое же сильное, как прошлым летом, когда он играл мне тет-а-тет свою оперу, но самой музыки я, к сожалению, почти не запомнил. Именно в тот момент я и решил начать копить на кассетный магнитофон, чтобы носить его с собой в подобных случаях. Исполнял он свою сонату не просто так: на другой день он должен был показать её «шефу», то есть своему консерваторскому наставнику Борису Ивановичу Тищенко. А накануне он показывал ему свою виолончельную сонату. Я всё хотел спросить его о мнении шефа, да так и не сподобился, теперь жалею. Потому что говорили мы, когда потом возвращались, в основном о Свете, нашей общей подруге: – В ней главная черта – недосказанность. Она вся какая-то недосказанная! – так выразился он в тот раз. А по поводу своих сочинений упомянул он лишь вкратце о том, что планирует написать ещё одну сонату – на этот раз для альта и фортепиано, но что очень любит ещё и виолончель, для которой ищет музыкальную тему. Признался он и в том, что очень хочет сотворить что-то в стиле Хиндемита. Ещё вспоминаю, как той весной ждали мы ответа от академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, которому флейтист Олег Кузьмин, участник ансамбля «Барокко Консорт», написал письмо: «…Мы, нижеподписавшиеся исполнители старинной музыки г.Ленинграда, убедительно просим вас оказать нам поддержку в деле придания социального статуса и создании хотя бы минимальных необходимых условий для нашей деятельности…» Но чем дело закончилось – не помню. Володе не везло в личной жизни. Своими «обломами» он иногда делился со мной, как в том письме 1984 года. Такова участь многих творцов. Насколько талантливым он был в искусстве, настолько же неприспособленным оказался к семейному быту. Его подруги это чувствовали и в итоге сбегали, а он страдал. Да ещё той весной умерла у него на руках его любимая бабушка в возрасте 89 лет. Он позвонил и рассказал мне, как всё это случилось – нужно было поделиться переживанием. Чтобы развеять Володю, мы поехали в 26 мая в Царское село компанией в пять человек. Было это на другой день после концерта «Барокко консорта» в Малом зале филармонии, где исполнялась «Музыка на воде» Генделя и много других замечательных вещей (а перед этим, 19 мая, они сыграли-таки в той же Филармонии ту самую программу с Бахами). . Взяли напрокат лодку и, катаясь в ней, играли на блокфлейтах. Володя преуспел в разнообразии флейтового репертуара, пожалуй, больше всех. Слушали, как звуки отражаются от поверхности воды. Это стало интересным акустическим открытием: не думали мы, что вода способна так отражать и далеко разносить звуки! Пришли к выводу, что может быть, поэтому столь популярным был жанр «музыки на воде» в эпоху барокко. А потом я вдруг увидел его, задумчиво сидящего на холме над озером. Какая-то обречённость чувствовалась в его позе. – Ну что сидишь, как схимник, одиноко, покинутый на волю злого рока? – неуклюже сымпровизировал я, подходя ближе и пытаясь как-то его подбодрить. Но он, не поддавшись попыткам юмора, медленно, тихо и серьёзно проговорил почти про себя: – Да уж… видно, так бобылём и придётся прожить одному. Не судьба, значит! И тут же, спохватившись и заставив себя взбодриться, он с натужной весёлостью сказал, продолжая глядеть на воду: – Помнишь у Достоевского в «Идиоте» есть классическое определение бобылей: «…Они из таких, которые никогда никого не знают, и которых никто не знает».
Год 1987-й, лето
"Весна" и Летний сад К концу лета того памятного 1987 года, когда я в июне сдал обратно билеты в Крым и не поехал туда ради общения со Светой Ветловой, а устроился по протекции моей мамы, начавшей работать завхозом в пионерлагере «Дзержинец» за Зеленогорском, ночным сторожем и садовником в этот же лагерь, я всё же смог наскрести (не без отцовской помощи, как всегда) очень серьёзную сумму в 215 рублей на кассетный магнитофон «Весна». Советская промышленность, ура, наконец-то начала выпускать и отечественные кассетники! Размером с коробку торта и весом в два килограмма, он казался мне едва ли не миниатюрным после моей громоздкой «Дайны». Главным образом приобрёл я его для того, чтобы ходить с ним на концерты «Барокко консорта». С этой поры я повсюду таскался со своим агрегатом и записывал концерты любимого ансамбля в залах Павловска, Пушкина, Гатчины и Филармонии. А пару раз удалось даже записать домашние джазовые импровизации Володи. Надеюсь вскорости отыскать эти аудиокассеты и оцифровать их. Иногда «консортники» выступали прямо в Летнем саду, на открытом воздухе, если позволяла погода. Чтобы послушать их, собиралось немало народа. По окончании одного такого концерта, помню, мы потешались, когда четыре человека в чёрных фраках, взяв за углы клавесин, медленно и торжественно несли его через Летний сад. А потом, когда мы возвращались с Володей домой (у меня в руках был неизменный магнитофон), он рассказал мне, что многие поначалу не верили в появление советских кассетников, привыкнув только к импортным, поэтому некоторые ушлые жулики продавали их на чёрном рынке втридорога как зарубежные – сдирали заводские наклейки, а русскую надпись «Весна» выдавали за название английской фирмы «Бэча». В тот август Володя поведал мне ещё один любопытный факт: – Ты знаешь, что в Москве тридцатых передвигали целые дома? – То есть как это? – Очень просто. Большие кирпичные дома в несколько этажей приподнимали, подводили рельсы – и двигали куда надо! Руководил этим некто Гендель, но не музыкант, а архитектор – тоже, впрочем, гений. Причём двигали здания вместе с колоннами, подвалами и даже с жильцами! А жильцы иногда и не подозревали, что их дом едет, и жили обычной жизнью. – Да быть такого не может! Шутить изволишь? – Нет, на полном серьёзе, – уверял меня Володя. – Таким манером передвинули десятки домов! Мне никак не хотелось верить, я всё-таки упорно считал это розыгрышем. Только много позднее, с появлением интернета, пришлось удостовериться в том, что Володя прав, так оно и было!
Год 1987-й, осень
Мурманск, новый клавесин, экологический джаз и Фестиваль старинной музыки В конце сентября мы с сестрой Светой вновь ездили к Сергею на Кольский полуостров. На этот раз его отпустили из военной части на пару дней в Мурманск, и мы прекрасно провели пару дней на 14-м этаже гостиницы «Арктика», самого высокого здания Заполярья, что вздымается посреди Мурманска так же, как отель «Виру» посреди Таллинна. Два дня над столицей Заполярья звучал из кассетника «Барокко консорт». Переписка Володи с Сергеем продолжалась – правда, не такая интенсивная, как у меня. Случалось, что последний слал первому на суд свои сочинения для аккордеона, и Володя «наводил критику» на них, иногда по-дружески нелицеприятную. А в жизни самого Володи наиважнейшим событием той осени стало то, что он приобрёл собственный клавесин. Заказан был инструмент рекомендованному ему мастеру в Киеве, и вёз его оттуда Володя в самолёте прямо на руках, тогда ещё это разрешалось. Со смехом рассказывал он мне, как впервые позвонил этому мастеру, и ответил ему в трубку старый еврей с грассированием, а на деле мастером оказался молодой парень, который просто «прикалывался». Примерно в то же время и клавесинистка Ирина Шнеерова, с которой мы учились в одной музыкальной школе, тоже «сделала» себе отличный инструмент по заказу у того же мастера. Позднее Володя иногда выступал с Ириной в совместных концертах – она играла с ансамблем «Musica Antiqua St. Petersburg», в 1990 году преобразованным в ансамбль «Musica Petropolitana». Оба они глубоко изучили клавесинное искусство по старинным трактатам, главным из которых является, пожалуй, «Искусство игры на клавесине» Франсуа Куперена, написанный в начале 18-го века. Как и обещал, Володя познакомил меня с «экологическим джазом» Пола Уинтера. В тот год вышла долгожданная пластинка «Концерт Земле», которую он не замедлил мне подарить в день рождения – на этом виниле записана джазовая музыка, рождающаяся из звуков природы: трелей птиц, плеска волн, пения кита, завывания волка и т.д. Эти звуки преобразовал в музыку саксофонист Пол Уинтер со своим ансамблем «Консорт». С воскресенья 11 ноября по воскресенье 18 ноября 1987 года с в Малом зале Филармонии проводился Фестиваль старинной музыки. Для нас это стало крупным событием! Мы проводили в этом зале практически все вечера. Ежедневно выступал какой-либо камерный ансамбль нашего города: «Академия старинной музыки», «Про анима», ансамбль «Барокко» Игоря Попкова, ансамбль старинной музыки Валентина Копылова – и конечно же, не обошлось без «Барокко консорта»: 14 ноября наши музыканты выступали вместе с Эриком Курмангалиевым, а 18-го участвовали в концерте победителей фестиваля. Финальный аккорд этого мероприятия был обставлен торжественно, приезжало телевидение. В конце съёмок музыкальных номеров ведущие прямо перед телекамерами брали на сцене интервью у исполнителей, в том числе и у Володи. Жаль, что записывать на магнитофон мне в филармоническом зале тогда не разрешили.
Программа Фестиваля старинной музыки в МЗФ, ноябрь 1987 г.
Год 1987-й, декабрь
«Киношки» и юбилей ТКО Продолжали мы ходить и в кинотеатры – пока с нами не было Сергея, вдвоём. В основном на новинки, только-только начинавшие появляться на экраны. После каждого такого похода я жадно впитывал его отзывы, они многое проясняли. Однажды Володя предложил мне сходить с ним на фильм, название которого звучало для меня тогда странно: «Пролетая над гнездом кукушки». Фильм был снят в 1975 году режиссёром Милушом Форманом по одноименной повести Кэна Кизи. Написана была книга в 1963 году, тогда и разворачивается её сюжет. За эти 12 лет она стала классикой и едва ли не манифестом американской молодёжи поколения пятидесятых (в основном битников) и была переиздана более двадцати раз. Наконец и до нашей страны картина дошла ещё через 12 лет после её американской премьеры, ибо до перестройки с её гласностью нечего было и мечтать увидеть на наших экранах фильм о борьбе человека с Системой. А тогда дух этой борьбы просто витал в воздухе – потому-то этот фильм, несмотря на трагичность сюжета, и стал в позднем СССР на некоторое время таким популярным. Мы остались под мощным впечатлением. Когда вышли из кинотеатра, Володя сказал: – В повести ведется повествование от лица глухонемого индейца, но в фильме такому персонажу трудно держать на себе зрителя. Видимо, поэтому центр тяжести переместился на другого главного героя, Мак-Мёрфи. И фильм, и книга по-своему гениальны – каждый сам по себе. Редкий случай! Оказывается, он успел к тому времени прочесть и саму книгу Кэна Кизи! Где только раздобыл? Кинотеатр находился в Шушарах, в Доме культуры, который был мне хорошо знаком: как раз в то время я работал в нём, аккомпанируя детским студиям – хореографической и цирковой. Поддавшись висевшей в фойе афише свежего фильма с незнакомым названием «Десять негритят», мы через день снова приехали в Шушары. Одноименный роман Агаты Кристи ещё не издавался в нашей стране, так что сюжета мы не знали. А потому вновь выходили из зрительного зала, слегка ошарашенные этим детективом. – Да, за жабры он держать умеет! – задумчиво проговорил Володя (это о Станиславе Говорухине, режиссёре). Нас порадовала стильность и атмосферность фильма. Потом уж мы узнали, что это уже четвёртая экранизация романа, при этом наиболее близкая к оригиналу и считающаяся лучшей. А ещё через день мы встретились в училище на праздновании 50-летия нашего ТКО – теоретико-композиторского отдела. Я вновь увиделся со многими своими однокурсниками и преподавателями, а главное – услышал блестящие джазовые импровизации Володи. Жаль, что фото, где мы стоим с ним в обнимку, оказалось на плёнке совершенно расплывчатым и несмотрибельным. Кто снимал – не помню, но пили все только чай.
Год 1988-й
Житинский и кулак под клавесином 20 апреля 1988 года случилось яркое для нас событие: авторский вечер писателя Александра Житинского в Доме Ученых, на который я не мог не пойти. Конечно, звал с собой и Володю, но он не смог присоединиться – выступал в тот вечер в Юсуповском; Серёжка бы обязательно со мной пошёл, но он был в армии. В итоге ходили только я с сестрой. Мы вообще все восьмидесятые очень сильно «болели» Житинским, даже переговаривались постоянно цитатами из него. Меня приобщили к нему в 1982 году Катя Смирнова и Саша Харьковский, и с тех пор мы старались не пропускать новых книг писателя, появлявшихся на полках. Так продолжается по сей день, ибо он по-прежнему – ярчайший из ленинградских литераторов. А в 1984-м, когда у Володи случались «обломы» в личной жизни (о чём он мне с горьким юмором сообщал в письмах), он взял у меня почитать книгу Житинского с несколькими его повестями и вернул в конце лета с восхищёнными отзывами и благодарностью: – Очень кстати ты мне дал эту книгу, она меня по сути вытащила из депресняка в трудные дни! Потом мы часто беседовали с Володей о Житинском. Однажды я сказал ему: – Когда читаешь иные рассказы и повести, особенно детективные (например, Станислава Родионова), то по прочтении возникает ощущение, что вещь пишется с конца: все мысли, и действия героев подогнаны под финал – потому они кажутся слишком уж логичными и законченными. То есть не спонтанными, а требуемыми автору. У Житинского же наоборот: такое ощущение при чтении, что он сам не знает, чем всё закончится, а просто описывает жизнь. То бишь – не прилизанность, а растрёпанность мыслей и чувств. Володя ответил: – Это называется просто: антитенденциозностью. И вот – тот самый авторский вечер в таком хорошо знакомом, почти родном Доме учёных в Лесном. Впервые я лицезрел живого Маэстро – столь обожаемого и почитаемого, но такого, оказывается, простого и доступного! Два часа промелькнули на одном дыхании. Были затронуты, и литература, и кино, и новые замыслы, которые на тот момент волновали писателя. Много было рассказов и вопросов из зала о только что вышедшем его новом романе «Потерянный дом, или разговоры с Милордом». Точнее – отдельно книгой «Дом» тогда ещё не вышел, и вещь эта печаталась частями в журналах. Разговор с залом был о Высоцком и Окуджаве, о Пикассо и Саврасове, о Шостаковиче и Верди (Житинский признался, что собирается поставить «Риголетто» с театром «Лицедеи» Вячеслава Полунина). Не обошлось, разумеется, без политики, которой тогда жили поголовно все – гласность набрала силу. А потом я увидел писателя в фойе, где издавна обитали «Три грации» (копия мраморной скульптуры Антонио Канова, стоящей в Эрмитаже). Обычно я не решаюсь подойти к «великим», но лицо Александра Николаевича было настолько душевным и располагающим, что я просто спросил его о чём-то – и в итоге мы проговорили довольно долго, минут 10-15. В основном о «Потерянном доме». Я сказал, что читал уже всякие отзывы об этой вещи – и хвалебные, и наоборот. А автор конфиденциально поведал мне, что критики-то как раз самые что ни на есть «ахиллесовы пяты» произведения и не заметили, а «разнесли» его совсем за другое. Об этой встрече я подробнейшим образом в тот же вечер поведал Сергею в письме («Ты так детально всё описал, как если бы я там был», – ответил он). Самого письма не сохранилось, поэтому теперь, спустя почти два десятилетия, восстанавливаю события по памяти. И конечно, Володя тоже подробно расспросил меня потом об этой памятной встрече. 17 мая 1988 года «Барокко консорт» выступал в небольшой музыкальной гостиной дворца культуры имени Горького, где едва ли смогли разместиться три-четыре десятка человек. Чтец из «Ленконцерта», не помню его имени, разбавлял звучание старинной музыки чтением стихов той эпохи (затем музыканты часто будут так делать и впредь). И тут я должен признаться в небольшом своём криминале, совершённом в тот вечер. С собой я притащил по привычке кассетный магнитофон, с которым теперь не расставался, и включил его, едва переступил порог гостиной. Но в этот момент из-под маленького клавичембало показался внушительный володин кулак – музыкант явно дал понять этим жестом, что не желает записывать данное выступление! Несмотря на столь недвусмысленное предупреждение, я по нахальству и легкомыслию всё-таки пренебрёг им и записал весь концерт. Ой, что было потом! В холле, по окончании концерта, Володя обрушился на меня со всею яростью своего холерического нрава. Досталось мне по первое число!.. Сие обыгрывание программы перед очередной Филармонией было, по его словам, весьма сырым и недоработанным, так что запись эта не делала чести их коллективу. Теперь-то я вполне понимаю его профессиональный подход к таким вещам. Мне бы досталось куда больше, если бы не моя спутница Света Ветлова, которая вклинилась тогда между нами и сумела мягко погасить конфликт с помощью своего женского обаяния. Но всё же пришлось мне пообещать маэстро впредь заручаться его согласием на аудиофиксирование всех будущих выступлений «Барокко консорта». А 28 июня Сергей наконец-то вернулся «на гражданку»! Зря я так сильно переживал за "три года" – вернулся он даже на неделю раньше, чем минуло два! За время его службы я написал ему в армию 318 писем, стремясь постоянно поддерживать товарища (уж не знаю, была ли в этом нужда – к армии он оказался гораздо более приспособлен, чем я сам, и чем мне казалось). Теперь всяческие поездки по Ленобласти совершались уже «на троих». Так съездили мы в том году под Лугу, на тот же Карельский перешеек и снова в Гатчину. Но что-то всё-таки надломилось в наших отношениях с Володей после развития моего романа со Светой Ветловой. Он явно стал избегать меня, чем я по глупости и наивности был сильно удручён тогда.
Год 1989-й
Солист-клавесинист В 1989 году я женился на ней (после десяти лет дружбы) и – пропал для Володи: с той поры мы очень долго почти не виделись и не общались с ним, встречаясь мельком раза два в году, много три. В основном встречи и сейчас происходят только в Доме Композиторов на концертах и разных мероприятиях. Это меня печалит – тем более, что живём-то по-прежнему в одном городе! Том самом, о котором он так много мне поведал интересного в своё время. Собственно, на этом и заканчиваются мои подробные воспоминания о нашем общении с Владимиром Радченковым, далее остаётся пробежаться только очень коротко по оставшимся годам до сегодняшнего времени. Меня захватила тогда круговерть новой жизни. К тому же одновременно с женитьбой я поступил в Педагогический институт, где проводил все дни с утра и допоздна, не только учась, но и работая в том же здании. У Володи тоже началась с той поры новая жизнь, только уже в ином качестве. Как сообщает радио «Град Петров», «…с 1989 года Владимир Радченков регулярно выступал с оригинальными сольными программами в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, в Академической Капелле Санкт-Петербурга. Репертуар музыканта охватывал всю историю клавесинной музыки. Ряд программ был посвящен творчеству клавесинистов, работавших в Санкт-Петербурге в XVIII веке: Бортнянского, Рутини, Галуппи, Манфредини и прочих... Он продолжает блистать как клавесинист и сейчас. Его игру отличает тончайший вкус, ритмическая свобода и импровизационная манера исполнения – всё это вкупе с глубокими знаниями истории и секретов клавесинного исполнительства, а также обширным репертуаром и сделало его одним из ведущих клавесинистов нашего времени.
Начало 1990-х
«Pro anima» и конец прежней жизни 1990-1991 годы – непродолжительный период участия В.Радченкова в ансамбле старинной музыки «Pro anima» («Для души»), созданном ещё в 1977 году Геннадием Гольдштейном и исполнявшем европейскую музыку средних веков и эпохи Возрождения.. Володя даже записался вместе с остальными музыкантами на студии звукозаписи (среди них были и старые знакомые – Александр Кискачи, Константин Кучеров и Марина Филиппова). Эта запись под названием «Раннее итальянское барокко» стала четвёртой и, как оказалось, последней в дискографии ансамбля. Правда, в этот раз из-за нагрянувших экономических потрясений вместо винилового диска пришлось в итоге ограничиться аудиокассетой. Атмосфера начала девяностых хорошо запомнилась нашему поколению, тогда молодому и внезапно поставленному после привычной стабильности в жестокие условия, потребовавшие пробиваться самостоятельно. Духовную жизнь отодвинула необходимость элементарного выживания. Скачущие зарплаты не поспевали за бешеным ростом цен. Никакой «регулируемой рыночной экономики», как планировали власти, не получилось. Обычный рынок взял своё, взял грубо и бескомпромиссно. Пустые полки в магазинах сменились почти изобилием, но уже с космическими ценами. Придя утром в магазин, мы могли увидеть ценники вдвое-втрое выше, чем были накануне. Это было шоком, особенно после десятилетиями державшихся неизменных цен по всей стране на все товары. Учителя, инженеры и музыканты оставили профессии, заделавшись «челноками» и продавцами семечек на улице, а вчерашние школьные двоечники в одночасье превратились в преуспевающих бизнесменов. Мир перевернулся. Всё это, а не только изменения в личной жизни обоих, тоже поспособствовало нашему с Володей разъединению. Какие уж там неторопливые загородные прогулки, беседы о возвышенном и наслаждение от неспешно расстилающейся музыки барокко! Не до этого, выжить бы...
Середина 1990-х
Музыка для кино 1994-й год ознаменовался для Володи рождением сына (к тому времени он наконец-то прекратил свою «жизнь бобыля» и женился на своей коллеге Наталии Калентьевой, тоже занимающейся клавесинной темой). Это была огромная радость! Он души не чаял в мальчике и отдавал ему всё время. Конечно, он готовился сделать из Андрея музыканта, духовного наследника. Но клавесинное исполнительство его продолжало совершенствоваться. Рождались новые концерты, а позднее и вошедшие тогда в нашу жизнь компакт-диски с его записями. По-прежнему развивался Владимир Радченков и как композитор. К этому времени он стал автором двух инструментальных концертов, множества виолончельных произведений и камерных пьес для разных инструментов, концерта для фагота с оркестром «Дом с привидениями» и нескольких вокальных сюит. В своих сочинениях он предельно строг: при кажущемся многообразии интонаций всё нанизано на стержень единого тематизма. В музыке Владимира Радченкова реализована и фольклорная линия (например, преломление элементов крестьянской лирики), и импровизационное начало, и отсылы к эпохе барокко. Интересной чертой его произведений является, как мне кажется, отсутствие сентиментальности. В этом он близок со своими любимыми композиторами Гайдном, Стравинским и Хиндемитом. Каждая его мелодия проводится без излишеств, каждая тема глубока и функциональна – даже в тех местах, где он откровенно озорничает. К сожалению, практически всё из написанного им по сей день ждёт исполнения. Хочется верить, что когда-нибудь мы услышим эти произведения. А в 1995 году Володя впервые попробовал себя и как автор музыки для кино. В тот плодотворный год он пишет на заказ музыку сразу к двум фильмам Сергея Сельянова – «Время печали ещё не пришло» и «Русская идея» (первый художественный, второй документальный – о столетней истории русского кино). Особенно интересным оказалась картина «Время печали ещё не пришло», яркая и содержательная, одна из знаковых в девяностые годы. В ходе работы Володе посчастливилось общаться с игравшими в фильме знаменитыми киноактёрами – Валерием Приёмыховым, Петром Мамоновым, Мариной Левтовой, Михаилом Светиным и другими. Приемыхова и Левтовой не стало в 2000-м году, а двое других, по счастью, сегодня живы. Сюжет фильма описывается так: «В поселке, где живут русский, немец, татарин, цыган и еврей, однажды появляется неизвестный, называющий себя Землемером. После его появления с героями начинают происходить невероятные вещи... Пути героев расходятся, но спустя некоторое время, в канун наступления эпохи Водолея, они вновь собираются в заветном месте...» Кинокартина эта получила премию «Кинотавр» в номинации «Специальный приз» российского конкурса за 1995 год в Сочи. По этому поводу кинокритик Сергей Лаврентьев напишет: «Этот фильм грустен (не обращайте внимания на название), как и положено русскому произведению на русские темы. Однако грусть эта светла (обратите внимание на название), потому что иной русская грусть быть не может. Фабула чрезвычайно насыщена. Тут — фальшивомонетчики и вооруженный захват самолета, неудовлетворенность нынешней жизнью и ностальгические воспоминания о конце пятидесятых. Любовь и смерть. Абсолютно реальная действительность и самый, что ни на есть загробный мир. Валерий Приемыхов в главной роли достоверен и убедителен. Марина Левтова в роли героини переживает, похоже, второе актерское рождение. А удивительного странника, нарушившего тридцать лет назад патриархальный покой интернациональной деревеньки, играет Петр Мамонов, выросший в необыкновенного артиста, способного вершить невозможное, используя арсенал выразительных средств драматического актера, творить на экране визуальную магию кино, оказывая неоценимую помощь режиссеру. В своем новом фильме Сергей Сельянов развивает открытую в дебютном «Дне ангела» идею неразделимости реализма и фантасмагории, с помощью которой только и можно повествовать о судьбах Родины чудесной. Разумеется, идея эта существовала и до появления Сельянова. В литературе. В живописи. И даже в кинематографе. Очарование сельяновских лент состоит в том, что, пожалуй, впервые в современном отечественном кино они предложили легкую, неразрушительную самоиронию в качестве альтернативы традиционному российскому очищению страданием. Во «Времени печали...» неподражаем в этом смысле ретроэпизод, в котором Божий странник, он же разметчик будущей дороги, учит селян индийской любовной науке, рассуждает о любви и ненависти к евреям и утверждает, что ровно через двадцать лет случится в здешних местах диво дивное... Магическая серьезность Петра Мамонова, какая-то ленивая благостность повествования, запечатленная очарованной камерой, создают неповторимое ощущение. Мы как бы вспоминаем свое ушедшее детство, давно минувшую жизнь. В ней было хорошее и дурное, смешное и глупое. Но при любом воспоминании об этом времени отчего-то щемит сердце…» Вот фрагмент музыки В.Радченкова к этому фильму, тончайше передающей его атмосферу, его сокровенную суть – дурашливая и созерцательная, философская и самоироничная мелодия флейт: (Для прослушивания нажмите на картинку) В качестве композитора Владимир Радченков, к сожалению, пока не так широко известен, как клавесинист. И уж тем более мало кто знает, что он является ещё и замечательным бас-гитаристом. Зато в определённых кругах его по-прежнему почитают как знатока фольклора и прекрасного джазового музыканта. А ведь стихия джаз-импровизации близка не только к старинной музыке, но и к фольклорной. В 1996 году проходил цикл концертных «Вечеров в Фонтанном доме Шереметевых». Последний из этих «Вечеров» стал для меня, к сожалению, единственным посещением за все 90-е клавесинного выступления моего друга. Было это 6 декабря. Название концерта звучало так: «Британский Орфей и английская клавесинная музыка 17 века: Берд, Фарнеби, Булл, Жденкинс, Локк, Блоу». Впечатление от музыки осталось, конечно, незабываемое. Но не отпускала ностальгия по милым сердцу 1986-1987 годам, когда я таскался по пятам за «Барокко консортом» и знал наизусть все темы из его репертуара…
Конец 1990-х
Майский фестиваль В 1998 году Владимир Радченков вновь имел дело с киномузыкой: ему поручили аранжировать музыку для фильма «Про уродов и людей» с Сергеем Маковецким, Виктором Сухоруковым и Анжеликой Неволиной в главных ролях. Режиссёром и автором сценария стал Алексей Балабанов, а продюсером – уже знакомый Володе по прошлым фильмам Сергей Сельянов. Причём аранжировать пришлось музыку не кого-нибудь, а Глинки, Чайковского, Мусоргского и Прокофьева. Но он успешно справился. А следующий год ознаменовался для него московским «Майским фестивалем старинной музыки», который проходил в мае 1999-го и длился десять дней. Привожу фрагменты статьи о нём на сайте mmv.ru: «В Москве с 17 по 27 мая состоялось событие, заставившее встрепенуться многих. Это был Майский фестиваль старинной музыки, объединенный с творческой мастерской - научно-практической конференцией "СТАРИННАЯ МУЗЫКА: ПРАКТИКА. АРАНЖИРОВКА. РЕКОНСТРУКЦИЯ" и мастерклассами. Это событие для многих стало настоящим праздником: праздником общения с любимой музыкой, друг с другом, коллег с коллегами, праздником обмена опытом (исполнительским и научным), наконец – радостью общения со слушателями. К нам приехали музыканты из Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Канн, Иерусалима. Эти десять дней, конечно, не потрясли мир, но остались незабываемыми». Рассказ о фестивале передаётся в виде диалога двух музыковедов: петербурженки Анны Булычёвой и москвички Марии Батовой, художественного руководителя фестиваля. Вот отрывки из их «Июньской беседы о майском фестивале», касающиеся Володи: – А помнишь, как Владимир Радченков играл на тишайшем клавикорде сонату Винченцо Манфредини – отчаянный, тщетный призыв-приношение композитора Екатерине, лишавшей его поста, и все тесно сгрудились вокруг инструмента, изо всех сил напрягая слух? – Да, это была первая градация от тишины, не три piano, а все десять…И еще все смотрели в ноты, переписанные каллиграфическим почерком Радченкова, а Владимир Шуляковский призывал не смотреть туда - мол, там все равно написано не то, что звучит. В смысле - очень высока была доля импровизации… – Да, сквозь тишину очень четко улавливался творческий подход Радченкова к нотному тексту, вся необъятность и все очарование его стилистически корректного соавторства, которого текст Манфредини настоятельно требует. Кстати, когда я попробовала в такой манере (мое соавторство, конечно, так далеко не простиралось) поиграть сонаты Гайдна, то совершенно под новым углом восприняла и непрерывное орнаментальное варьирование мотивов, и эти совсем не классические еще разработки, в которых бывает не найти ни главной, ни побочной, зато полным-полно какого-то малоценного на первый взгляд материала, игровых фигур, которые сменяют друг другам без всякой видимой логики, кроме логики увлечения процессом. Но вернемся к серьезным проблемам аутентичного воспроизведения и аутентичной атмосферы. – А на следующий день был концерт. – Интереснейший, захватывающий! Концерт назывался "Барокко из Санкт-Петербурга", в первом отделении - XVII век (Дж.Фонтана, Б. Марини, М. Учеллини, Д. Габриэли, Дж. Фрескобальди, Дж. Пандольфи) в исполнении Владимира Шуляковского, Константина Кучерова и Владимира Радченкова. Во втором – итальянцы, жившие веком позже (многие были связаны с Россией) - Б. Галуппи, Дж, Верокаи, А.Вивальди, Л. Мадонис и близкий к итальянцам Дмитрий Бортнянский в исполнении MUSICA PETROPLITANA. Две совершено разных концепции исполнения этой музыки. И там, и здесь - барочная аффективность, выразительнейшая нюансировка, особая манера подачи звука. Распространено мнение, что существует такая вот "барочная манера игры на струнных". Концерт этот доказал, что единой барочной манеры нет! Единственная точка отсчета здесь – это внутреннее соответстие, созвучие исполняемой музыке, подкрепляемое самыми разными знаниями о ней и о времени ее бытования, об авторах, а набор приемов - это только инструмент, который помогает естественным образом раскрыть это внутреннее знание. Игра Владимира Радченкова на клавесине - совершенно покоряет… Радченков замечательно чувствует инструмент. И снова та же картина: за техничностью, виртуозностью кроется глубина. А его "тандем" с Константином Кучеровым в basso continuo был великолепен своей слиянностью и сбалансированностью. Вообще – удивительный ансамбль!
Начало 2000-х
Клавесин forever В 2000 году Владимир Радченков написал большую статью о Винценцо Манфреддини. Она была плодом его серьёзных исследований. Именно он открыл для нас заново этого замечательного итальянского композитора, творившего в Петербурге. Статья была написана для диска с записью шести сонат Манфреддини, с исполнением которых – первым в мире после исполнения их самим автором 235 лет назад – Володя незадолго до студийной записи выступил в Филармонии. Позднее Наталия Калентьева написала статью «Владимир Радченков: опыт исполнения и исследования клавесинных сочинений Винченцо Манфредини», которая начинается так: «Открытие в ХХ веке клавесинной музыки Винченцо Манфредини, созданной композитором в Петербурге, состоялось благодаря исследовательской и исполнительской деятельности замечательного петербургского клавесиниста Владимира Михайловича Радченкова. Цикл из шести сонат с посвящением Екатерине Второй был написан в 1765 году и исполнен автором с большим успехом в придворном концерте. Печатный экземпляр был вручен государыне и благосклонно ею принят. Долгое время сонаты считались утерянными, лишь в XX веке в архивах Болонской Академии были обнаружены рукописи нескольких сонат цикла. А в 1992 году В. Радченков обнаружил в архиве библиотеки Российской Академии Наук экземпляр нот всего цикла, что позволило музыканту сыграть все Шесть сонат в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии. Диск с записью сонат, изданный в 2000 году, содержит обширную вступительную статью В. Радченкова с подробным анализом клавирного стиля композитора. Клавесинист переписал все «Шесть сонат» от руки, так как копирование или фотографирование старинного издания не представлялось возможным — в настоящее время петербургские сонаты все еще не изданы…» Затем он изучал творчество и исполнял произведения Галуппи, Рутини, Бортнянского и многих других композиторов, писавших для клавесина. С начала 2000-х мы с Володей, по счастью, начали встречаться чаще. Иногда на его концертах. С этого времени и по сей день он участвует в комиссии по старинной музыке. А в октябре 2002 года он пригласил нас с Сергеем Васильевым на выступление Дворце Молодёжи своего сына-второклассника, который к тому времени уже три года занимался скрипкой. Это был дебют мальчика, который уже тогда намеревался стать профессиональным скрипачом. Затем началось его сотрудничество с радио «Град Петров», ведущая которого Ольга Суровегина и по сей день ведёт цикл передач «История клавесина» при участии Владимира Радченкова и Наталии Калентьевой. Голос В.М.Радченкова (записи на радиостудии): "Внутренний мир клавесина" (фрагмент) О композиторе Джованни Рутини
Конечно, в этих записках я смог показать лишь небольшую часть насыщенной жизни своего необыкновенного друга. А именно – ту её часть, о которой мне известно. То есть в основном годы его учёбы и становления. Многое, подчас наиважнейшее, осталось неохваченным. Особенно это касается последнего времени. Сейчас Владимир Михайлович Радченков преподаёт в родном училище имени Римского-Корсакова при Консерватории, то есть там, где он начал свою серьёзную музыкальную деятельность, и где зародились давным-давно наши отношения. Ведёт классы композиции, импровизации, аранжировки, клавесина – в общем, учит юное поколение Музыке. Тому, чему сам предан с детства и на всю жизнь. 2006
Известие о том, что Владимир Радченков скоропостижно скончался 29 января 2015 года, потрясло знавших его. Было ему 53 года. Только после этого печального события, складывая кусочки мозаики рассказов, отзывов и воспоминаний о нём, мы начали понимать широту интересов и истинный масштаб этой личности, с которой у очень и очень многих, как и у меня, в той или иной степени была связана часть жизни. На похоронах прозвучало множество хороших речей. Но самую яркую, эмоциональную и блестящую произнёс Вячеслав Харинов. Он поведал о начале их с Володей творческой жизни, о совместных выступлениях и становлении обоих как музыкантов. К сожалению, я не запомнил всю речь дословно, остались в памяти только два предложения: – Мы из поколения тех хрупких мальчиков, которые искали и находили… Пять параллельных нотных линеек, разделённые тактовыми чертами, стали для нас той золотой клеткой, из которой не хотелось выходить в мир! Когда-то я говорил Володе, что собираюсь написать о нём очерк в рамках своего цикла «О тех, кто рядом» и даже сотворил его вчерне. Но всё тянул с показом ему этого текста целых десять лет, всё исправлял и дополнял написанное. Мне казалось недостойным давать своему столь почитаемому другу полуфабрикат. Был уверен, что вот-вот отлакирую и дам уже готовое блюдо, а не «кухню». Не успел... Жаль, что за эти десять последних лет мы виделись всё-таки довольно редко. В основном в Доме Композиторов – на концертах и других мероприятиях. Например, встречались в 2010 году на юбилее нашей любимой Елены Николаевны Разумовской, имя которой неразрывно связано уже многие десятилетия с известным всем кабинетом фольклора. В тот вечер я пытался поснимать кое-что своей простенькой «мыльницей» на фото и даже видео (хоть оно там и скверного качества). Самым ценным из сохранившегося материала оказалась поздравительная импровизация Володи на рояле. Она звучала всего две с половиной минуты, но оказалась очень содержательной и гармонически сочной: 27 июня 2010 года. Владимир Радченков на 75-летии Елены Николаевны Разумовской (видео) . 1) афиша выступления 11 ноября 2012 года (с ошибкой в имени); 2-3) 5 декабря 2012, Малый зал Филармонии; 4) 2013 год: начало статьи В.М.Радченкова для Челябинской академии культуры; 5 - 6) 2014 год: афиши концертов в Архангельской и Петербургской филармониях.
А в марте 2013 года наш родной отдел ТКО нашего родного училища имени Римского-Корсакова отмечал своё 75-летие (наступившее фактически ещё в сентябре). Мы с Володей снова встретились в его стенах, как это было на 50-летии отдела осенью 1987-го. И снова всласть пообщались, словно в лучшие времена! Наконец-то я спросил у него о самом главном – о том, чего острейшим образом не хватало мне в записках о нём: о становлении его как композитора и как клавесиниста. Попросил, чтобы он вкратце поведал мне о начале своего пути! Он не стал ломаться и просто рассказал мне о занятиях композицией с Борисом Тищенко, затем о встрече с Владимиром Цытовичем и начале обучения клавесину у Ивана Розанова. К сожалению, у нас было мало возможностей оставаться в тот день вдвоём – кругом бурлили люди и речи. Воспитанники училища, конечно же, использовали юбилей отдела как повод для встреч с однокашниками. Недавно я обнаружил в интернете фотографию с того события. В кадр попали и мы оба – пока, правда, есть только её скрин из замечательной и обстоятельной публикации Антонины Александровой о том мероприятии: 19 марта 2013 года, 75-летие отдела ТКО: на "галёрке" Александр Харьковский и мы с Владимиром Радченковым. Последняя наша с Володей встреча случилась за два месяца до его ухода. Было это 28 ноября 2014 года в Доме Композиторов, где в числе прочих произведений прозвучали отрывки из его давнишнего (по-моему, ещё 90-х годов) сочинения для голоса и рояля. Это вокальный цикл «Сквозь зеркало», уже не раз звучавший в концертах ранее. Первой его исполнительницей была Марина Голикова. На этот раз солировала Зоя Журавлёва, супруга Михаила. Изначально это произведение сочинялось для голоса и клавесина. Но за неимением такового Володя аккомпанировал на рояле. Хорошо, что я успел тогда заснять это исполнение на видео! Вот оно: 28 ноября 2014 года, Санкт-Петербургский Дом Композиторов. За два месяца до кончины. Фрагменты вокального цикла «Сквозь зеркало» на текст Льюиса Кэрролла, поёт Зоя Журавлёва. Это последнее выступление Владимира Радченкова в качестве автора исполняемой музыки. Для меня Владимир Михайлович Радченков стал целой эпохой в жизни, важным её пластом. Мы дружили более 35 лет (в основном, как ясно из этих записок, в первое десятилетие из них). Поэтому я чувствовал себя обязанным написать о нём то, что помню. И от души благодарен всем, кто тоже оставил отзывы и воспоминания о нём. Вот некоторые из них. Дарья Дмитриевна Лебедева – преподаватель, пианистка и клавесинистка, ученица В.Р.Радченкова:  "Сегодня утром в александровской больнице на 53 году жизни скончался совершенно уникальный музыкант, Владимир Радченков...
"Сегодня утром в александровской больнице на 53 году жизни скончался совершенно уникальный музыкант, Владимир Радченков...
Богом поцелованный, мы всегда это знали... Бегали вокруг, суетились, как тогда – при знакомстве еще в 90-е гг, так и позже... Всегда знали, что говорить с ним на одном уровне не будем никогда... Огромный талант и бесконечная доброта... Терпеливый со студентами, впрочем, с любыми людьми, терпеливый к жизни, скромный и поражающий воображение одновременно... Как стесняешься порой задать глупый вопрос такому Мастеру, как поражаешься такой глубине знаний, удивительной эрудиции, феноменальной памяти, воображению, выдумке истинного Творца! Сколько было планов... Умер не просто преподаватель училища Римского-Корсакова, наставник по барочной импровизации у пианистов, – умер уникальный исполнитель, который мог научить, открыть секреты, истины об уникальном инструменте... О том, о чем в книгах не прочтешь. Выдающийся интерпретатор, говорящий с избранными на одном языке. Как радовался Владимир Михайлович появлению в камерных залах Мариинки-2 концертного клавичембало, как много тематических концертов было задумано... Последней темой, занимавшей мысли Владимира Михайловича была ( по моим сведениям) клавесинная музыка Й. Гайдна, с "абендом" Гайдна он собирался ехать на гастроли в Архангельск, больше (к сожалению) мне не было известно…" Игорь Эдуардович Друх, пианист и композитор:  «Это был выдающйся клавесинист, яркий композитор, великолепный педагог и лектор. Выпускник нашей консерватории по классу Б. И. Тищенко, он выступал с концертами и лекциями по истории клавесинной музыки, сотрудничал с Ансамблем виолончелистов С.-Петербурга, для которого создал ряд оригинальных пьес и изысканных обработок, и играл на бас-гитаре джаз-рок.
«Это был выдающйся клавесинист, яркий композитор, великолепный педагог и лектор. Выпускник нашей консерватории по классу Б. И. Тищенко, он выступал с концертами и лекциями по истории клавесинной музыки, сотрудничал с Ансамблем виолончелистов С.-Петербурга, для которого создал ряд оригинальных пьес и изысканных обработок, и играл на бас-гитаре джаз-рок.
Блестящий эрудит и обладатель поистине моцартовского слуха, он с упоением занимался расшифровками полевых записей фольклорных экспедиций и часами читал с листа немыслимое количество барочных клавиров. Он свободно выбирал интонацию, выработав оригинальный стиль, сочетающий импровизационную свободу и точность музыкальной формы. Скоропостижный уход из жизни стал ударом для многочисленных учеников и поклонников музыканта. Остались незавершёнными десятки проектов. И большинство сочинений композитора ещё ждут своего исполнения». Антонина Сергеевна Александрова, преподаватель музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова:  "Это для меня был человек особенный – сначала первый учитель по композиции в музыкальной школе, потом долгие годы хороший коллега и доброжелательный оппонент в защитах моих студентов.
"Это для меня был человек особенный – сначала первый учитель по композиции в музыкальной школе, потом долгие годы хороший коллега и доброжелательный оппонент в защитах моих студентов.
Светлая ему память!" Вячеслав Юльевич Харинов – кларнетист, джазовый музыкант, мотоциклист-рокер, священник (протоиерей, настоятель Скорбященского храма):  «Володя был очень дорогим для меня человеком. Наша юность прошла вместе, мы много музыки исполняли сообща. Начинали со старинной, но дальше был в основном, конечно, джаз. Вообще джаз я играл только с ним.
«Володя был очень дорогим для меня человеком. Наша юность прошла вместе, мы много музыки исполняли сообща. Начинали со старинной, но дальше был в основном, конечно, джаз. Вообще джаз я играл только с ним.
Недавно я натолкнулся у себя на огромное количество партий, написанных его рукой. Но всё это только отдельные голоса, и я очень жалею, что какие-то вещи я или не сохранил, или не имею всех партий, то есть полного дирекциона. Конечно, он был чрезвычайно интересен как композитор, для меня в первую очередь как джазовый! У него замечательные вещи, яркие гармонические сочетания, да и мелодические линии, которые говорят о его композиторском даре. Мы с ним довольно много поиграли – выступали и участвовали в конкурсах. Это было здорово и интересно! Очень жаль, что когда я стал священником, мы почти перестали общаться. Это странно, потому что у него мама верующая, православная. Да и он всегда был расположен к этому… И теперь Володя требует трепетного отношения к себе, доброго слова». Прекрасную заметку о Владимире Радченкове под названием «Ушёл ещё один Музыкант», написанную ясным и увлекательным языком, поместила через неделю после его кончины Инесса Забежинская, учившаяся с ним в училище и в консерватории. Некоторые отрывки оттуда уже цитировались раньше. Вот ещё фрагменты из неё:  «Володя был разносторонне образованным человеком уже во время учебы в училище. Он сыпал цитатами из читанных и не читанных мною романов и пьес, даже не допуская мысли, что я (или кто-то другой) может не знать, откуда она. Когда мы писали сочинение по литературе, он никогда не брал темы типа «Образ убиенной старушки» или «Великий перелом и его изображение в романе». Он – может быть, единственный со всего курса - всегда брал неизменно предлагаемую нашим преподавателем тему «Художественные особенности романа (поэмы)». При этом он довольно громко говорил вслух: «Эх, замахнусь на "художественные особенности"! Рискну!» При том, что на занятиях литературы у нас никогда не шла речь о том, что у романов могут быть какие бы то ни было художественные достоинства. Только идейные. И Володя получал 3 или 4. Когда у нас на 4-м курсе ввели курс «Истории смежных искусств» (о живописи, театре), ему он казался скучным, он все это давно знал, и гораздо лучше, чем нам рассказывали».
«Володя был разносторонне образованным человеком уже во время учебы в училище. Он сыпал цитатами из читанных и не читанных мною романов и пьес, даже не допуская мысли, что я (или кто-то другой) может не знать, откуда она. Когда мы писали сочинение по литературе, он никогда не брал темы типа «Образ убиенной старушки» или «Великий перелом и его изображение в романе». Он – может быть, единственный со всего курса - всегда брал неизменно предлагаемую нашим преподавателем тему «Художественные особенности романа (поэмы)». При этом он довольно громко говорил вслух: «Эх, замахнусь на "художественные особенности"! Рискну!» При том, что на занятиях литературы у нас никогда не шла речь о том, что у романов могут быть какие бы то ни было художественные достоинства. Только идейные. И Володя получал 3 или 4. Когда у нас на 4-м курсе ввели курс «Истории смежных искусств» (о живописи, театре), ему он казался скучным, он все это давно знал, и гораздо лучше, чем нам рассказывали».
«Володя знал чуть ли не каждую ноту, написанную для клавесина, и вплотную занялся русской клавесинной музыкой. Да-да, кто бы мог подумать, что таковая существует? Он сидел в архивах и нашел немало дотоле неизвестных произведений итальянских композиторов, работавших в Петербурге (Винченцо Манфредини, Джованни Марко Рутини, Бальдассаре Галуппи) и их российских учеников (таковыми были Василий Пашкевич, Максим Березовский, Степан Дегтярев, Дмитрий Бортнянский). Нашел он и единомышленников, Российский ансамбль старинной музыки (Musica Antiqua Russica), специализирующийся на исполнении только что найденных произведений, и выступал с ними. Выступая с концертами, Володя Радченков предварял исполнение несколькими словами о произведениях, и слова эти были результатом глубоких знаний. Его аннотации к дискам «тянут» не на одну, а на пару диссертаций. Несколько лет назад его приняли в аспирантуру Российского института истории искусств, он писал диссертацию, материал которой у него был уже практически собран за несколько десятилетий». Там же, в конце, приводится интервью 2012 года с Владимиром Радченковым одесского клавесиниста Андрея Вячеславовича Прахта, магистра факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Полностью воспоминания Инессы Забежинской, иллюстрированные фотографиями, можно прочесть ЗДЕСЬ. Иосиф Генрихович Райскин — музыковед, редактор и постоянный автор газеты «Санкт-Петербургский музыкальный вестник»: СЕРЕБРЯНЫЙ СВЕТ
Памяти Владимира Радченкова (1961–2015)  «Ушел еще один Музыкант», — так просто и печально написала в своем блоге сокурсница Радченкова по училищу имени Н. А. Римского-Корсакова. К ее воспоминаниям вернусь позже: два слова из первых на этой газетной полосе: Свет и Музыкант — оба с большой буквы. «Ушел еще один Музыкант», — так просто и печально написала в своем блоге сокурсница Радченкова по училищу имени Н. А. Римского-Корсакова. К ее воспоминаниям вернусь позже: два слова из первых на этой газетной полосе: Свет и Музыкант — оба с большой буквы.
Композитор, клавесинист, влюбленный в музыку далеких веков и в джаз, знаток музыкальных тайн Ренессанса, барокко и современных методов композиции… Искатель забытых музыкальных кладов в архивах, музеях, библиотеках… Эрудит, заражавший своей любовью к старинной музыке и профессионалов, и слушателей, автор буклетов к альбомам CD, статей, рецензий, — немало их вы могли прочесть на страницах «Санкт-Петербургского музыкального вестника»… Инструментовед, досконально изучивший оригинальные клавесины старинных мастеров и консультировавший современных реставраторов, строителей новых инструментов… Музыкант! Это единственное слово, которое объемлет всё, что успел сделать Владимир Радченков. А успел он многое… Мне прислали появившийся ВКонтакте отклик коллеги Радченкова — пианистки Дарьи Лебедевой: «Богом поцелованный, мы всегда это знали… Огромный талант и бесконечная доброта. Скромный и поражающий воображение одновременно… Умер не просто преподаватель Училища Римского-Корсакова, наставник по барочной импровизации у пианистов, — умер выдающийся интерпретатор, говорящий с избранными на одном языке. Как радовался он появлению в камерных залах Мариинки-2 концертного клавичембало, как много концертов задумывал… Последней темой, занимавшей мысли Владимира Михайловича, была (по моим сведениям) клавесинная музыка Й. Гайдна. С “клавирабендом” Гайдна он собирался на гастроли в Архангельск…» Тут я внесу коррективы: мысли о клавирном Гайдне занимали Радченкова давно, и уже в сезоне 2008–2009 он выступил в Малом зале филармонии с программой из сонат великого родоначальника классики. Разумеется, не на фортепиано, а на любимом клавесине. Цикл концертов Филармонического общества Санкт-Петербурга озаглавлен был словом самого Гайдна: «Серебряный свет» — так композитор называл в письмах камерную музыку. Кто из учившихся фортепианной игре не твердил хотя бы части из гайдновских сонат! Но услышать их в серебристом клавесинном тембре — редкая привилегия даже для жителей столиц: музыку венских классиков нынче чаще играют на «Стейнвее». Снова к воспоминаниям, задавшим тон этим страницам — их автор Инесса Забежинская давно живет в Израиле. «В музыкальном училище им. Римского-Корсакова в конце 70-х годов очень выделялся студент-композитор Володя Радченков… он казался неутомимым. В перерывах он бросался к роялю и играл, что-то кому-то рассказывая, или шел на лестницу черного хода, где занимались духовики и контрабасисты, и расспрашивал их об особенностях инструментов и приемов игры на них, просил порой дать ему самому поиграть… Затем он должен был поделиться полученными знаниями, поэтому его однокашники задолго до курса инструментоведения уже знали и о frullato, и о различных приемах игры на струнных. Не помню, с первого ли курса училища или немного позже, Володя начал ходить на заседания секций Союза композиторов, слушать новые произведения и их обсуждения… Именно от него я узнала о пуантилизме, алеаторике, сонористике, Пендерецком, Штокхаузене и других композиторах-авангардистах… Володя был разносторонне образованным человеком, он сыпал цитатами из читанных и не читанных мною романов и пьес, даже не допуская мысли, что кто-то другой может не знать, откуда они… Когда у нас ввели курс "Истории смежных искусств" (о живописи, театре), ему он казался скучным, он все это давно знал, и гораздо лучше, чем нам рассказывали. Володя очень любил импровизировать и одно время серьезно увлекался джазом. В бытность свою студентом Ленинградской консерватории, в 1984 году вместе с несколькими другими ленинградскими студентами-джазистами он участвовал в межреспубликанском конкурсе джазовой импровизации в Вильнюсе». Найти свой собственный путь в музыке — и исполнителю, и композитору — помог… клавесин. Владимир Радченков влюбился в этот полузабытый инструмент, вышедший из тени на волне всеобщего интереса к старинной музыке. В консерватории занимался в классе профессора Ивана Васильевича Розанова, затем совершенствовался у западных педагогов. С середины 80-х годов он участвует во многих международных проектах, фестивалях старинной музыки. А с 1989 года Радченков регулярно выступает в Малом зале филармонии, в зале Академической капеллы, в Зубовском институте, в церкви Святой Екатерины на Васильевском острове, в Фонтанном доме… Вместе с женой Натальей Калентьевой принимает участие в исполнении дуэтов для двух клавесинов Куперена, Люлли, Корелли, Стамица, Маттезона… Знавший едва ли не каждую ноту для клавесина, он проявил себя как историк, исследователь; в библиотеках и архивах без устали разыскивал произведения итальянских композиторов, работавших в Петербурге (В. Манфредини, Дж. М. Рутини, Б. Галуппи), и их российских учеников В. Пашкевича, М. Березовского, С. Дегтярева, Д. Бортнянского. В концертах зазвучали «откопанные» шедевры. Вышли компакт-диски с их записями. Завершая буклет к диску Шести Сонат Рутини, посвященных великому князю Петру Федоровичу, Владимир Радченков сообщает скромно: «Осенью 2003 года цикл из шести сонат Рутини представлен был любителям музыки Санкт-Петербурга в месте их создания и первого исполнения — в “Фонтанном доме” Шереметевых. Там же была осуществлена предлагаемая запись». В Интернете я выловил пространный диалог Анны Булычевой и Марии Батовой о «Майском фестивале старинной музыки» 1999 года. Вот фрагмент этого диалога: — А помнишь, как Владимир Радченков играл на тишайшем клавикорде сонату Винченцо Манфредини… и все тесно сгрудились вокруг инструмента, изо всех сил напрягая слух? — Да, это была первая градация от тишины, не три piano, а все десять… И еще все смотрели в ноты, переписанные каллиграфическим почерком Радченкова, а Владимир Шуляковский призывал смотреть не туда — мол, там всё равно написано не то, что звучит. Так высока была доля импровизации… — Сквозь тишину четко улавливался творческий подход Радченкова к нотному тексту, вся необъятность и все очарование его стилистически корректного соавторства, которого текст Манфредини настоятельно требует… Чему бы ни были посвящены концерты музыканта — итальянцам в Петербурге, немецкому или французскому барокко, — перед публикой представал артист-исследователь, настоящий соавтор исполняемой музыки. В роли исследователя он открывался залу уже во вступительном слове, где увлекательно рассказывал о своих поисках, сопровождал музыку историческим комментарием. От многих коллег я слышал, что накопленные им материалы исследований «тянут» не на одну диссертацию. Но и оставшиеся в незавершенном виде работы достойны публикации. Как взывают к изданию еще не оцифрованные записи музыканта, как интересно было бы познакомиться с композиторским багажом Радченкова. Ученик Бориса Ивановича Тищенко по классу композиции, он оставил не так много сочинений, но все они отмечены печатью сильного и независимого дара, мастерством «выделки». Не раз побуждаемый коллегами, Владимир откладывал вступление в Союз композиторов, повторяя, что еще «не готов…» Сказывалась все та же невероятная скромность, но главное, — профессиональная честность. А я хотел бы снова услышать и Фортепианную сонату, и Сонату для альта и фортепиано, и вокальные циклы на стихи Л. Кэррола и Л. Стаффа — они звучали в концертах «Галереи портретов» в Доме композиторов. Я вспоминаю его композицию к юбилею К. Ф. Э. Баха; выдержанная в стиле хиндемитовского «необарокко», она имела успех на одном из фестивалей «Звуковые пути»… Забавную историю рассказала мне по телефону Марина Филиппова — ей я позвонил в Германию, где она теперь живет. Известная камерная певица, много сделавшая, в частности, для популяризации старинной музыки в нашем городе, с конца 70-х годов прошлого века руководила юношеским ансамблем старинной музыки «Musica ricercata» в Доме культуры работников просвещения (Юсуповском дворце). Там начинали молодые музыканты, ставшие позже известными — в разных областях. На виоле да гамба играл Борис Муратов — будущий мастер-строитель музыкальных инструментов, на барочной виолончели и виоле да гамба — Борис Райскин; обоих музыкантов давно нет с нами. Пели будущие музыковеды-историки-теоретики Ольга Манулкина и Михаил Мищенко, на флейтах играл Слава Харинов… Дирекция Дома культуры была довольна работой ансамбля, но однажды административное ретивое взыграло: «Почему в вашем репертуаре нет произведений советских композиторов?» (во всех филармониях и театрах была тогда такая обязательная квота-разнарядка!) «Но мы же исполняем старинную музыку!» — возопила руководительница «Musica ricercata». «Найдите» — они отвечали. И… Владимир Радченков, выступавший c ансамблем, сочинил нечто в ренессансном духе, что и было сыграно ко всеобщему удовольствию. Володя же после гордо именовал себя «старинным советским композитором» — он обожал шутки, розыгрыши, мог рассмешить любую компанию… …Отпевали Владимира Радченкова в церкви Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» на Шпалерной. Панихиду служил настоятель храма протоиерей Вячеслав Харинов (да, да, тот, кто играл на флейтах в «Musica ricercata»!) А по окончании панихиды в поминальном слове отец Вячеслав говорил о своем друге, о свете, исходившем от замечательного человека и музыканта, о Свете Несказанном, что прольется на праведников… |
|
1994 - запись для российского телевидения, прямой эфир
Владимир Волков (альт да гамба), Владимир Шуляковский (барочная скрипка), Владимир Радченков (клавесин)
Генрих Бибер (1644-1704)
Репрезентативная соната (фрагмент "Кот") |
| 2002, 22 апреля, Капелла, прямой эфир. Г.Бибер - "Сонаты-мистерии": Владимир Шуляковский (скрипка), Анна Ковальская (барочная гитара), Антон Бирула (теорбо), Григорий Варшавский (орган), Владимир Радченков (клавесин), Алексей Иванов (виола да гамба). |
|
2006, 19 июня, Капелла
(со вступительным словом В.Радченкова) P.Royer
«La Marche des Scythes» |
2008, 26 июня, Малый зал Филармонии
|
2008, 11 декабря, съёмки для телеканала «100»
|
|
2009, 30 декабря, Павловск (?)
Владимир Шуляковский (скрипка), Владимир Радченков (клавесин), Константин Кучеров (виолончель) |
2010, 24 октября
Прямая запись из Малого зала Филармонии СПб Б.Марини
Пассакалия, соч. 22 |
2010, 30 декабря, МЗФ: Владимир Радченков (клавесин) и Вячеслав Гайворонский (труба)
"Однажды и вновь"
(фрагмент джазовой пьесы) |
|
2011, 19 августа, студийная запись
Две клавесинные сонаты Б.Галуппи
|
2011, октябрь, Малый зал Филармонии
|
|
2012, 31 мая, церковь св.Иоанна (СПб)
|
2012, 15 июня, Малый зал Филармонии - старинная музыка с джазовыми импровизациями
|
|
2012, 20 июля, Эстония, Тарту, церковь св. Иоанна
|
2012, 14 октября, Малый зал Филармонии
|
|
2012, 12 декабря
фрагмент джем-сейшна джазовая импровизация на тему английской песни
"Greensleeves" ("Баллада о зелёных рукавах") |
2013, 24 февраля, Малый зал Филармонии
|
2013, 17 марта, Капелла, "Mystery of the sound"
Mugam Bayati Shiraz
(импровизация на клавесине) |
| 2013, 31 марта, Смольный собор |
|
И.С.Бах
Бранденбургский концерт № 3 |
И.С.Бах
Бранденбургский концерт № 6 |
Г.Ф. Телеман
Концерт для флейты и скрипки |
А.Вивальди
Симфония соль мажор |
|
2013, 18 мая, зал Российской Национальной библиотеки
|
2013, 30 мая, Смольный собор
|
|
2013, 19 сентября, зал Российской Национальной библиотеки
|
2013, 28 сентября, концерт в Кризевци (Хорватия)
К.Монтеверди "Lamento della Ninfa"
Д.Пандольфи, соната "La Cesta" |
2013, 16 октября, Малый зал Филармонии
|
|
2013, 27 ноября, МЗФ
Обработка русской народной песни
«Ах, свет мой горький» |
2013, декабрь, Смольный собор
А.Вивальди
Симфония соль мажор |
2014, 18 февраля, Малый зал Филармонии , обработки в стиле рок-барокко
|
|
2014, 25 марта, Малый зал Филармонии
|
2014, 8 июня, Малый зал Филармонии
|
|
2014, 13 ноября, Эрмитаж
(запись с концерта музыкального фестиваля, посвящённого 250-летнему юбилею дворца) |
2015, 19 марта, Дом композиторов
Владимир Радченков
Три стихотворения Леопольда Стаффа Зоя Журавлёва и Наталья Волкова |